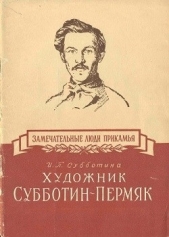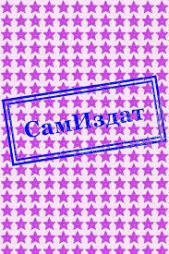Нестеров

Нестеров читать книгу онлайн
Книга С.Дурылина «Нестеров в жизни и творчестве» – книга необычного жанра. Это не искусствоведческое исследование и не биография в строгом смысле слова. Пожалуй, ближе всего эта книга стоит к мемуарам. В основу ее легли многие неизвестные исследователям материалы, вчастности дневниковые записи самого С.Н. Дурылина его бесед с М.В. Нестеровым. О том, как создавалась эта книга, автор подробно рассказывает во введении, названном им «Вместо предисловия».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тот, кто идет с ним рядом, накинув пальто на плечи, – человек иного темперамента, другого жизненного склада. Если у его спутника темперамент мысли, и он чувствуется во всем его облике: четком, худом, строгом, то у человека в пальто темперамент сердца, преданного неустанным волнениям «проклятых вопросов» о смысле бытия, о сущности религии, о судьбе родины.
Ему сильно за сорок; у него, вероятно, есть семья; у него, конечно, есть ученая профессия; но на его простом, типично русском лице с непокорно всклокоченными волосами лежит такой явный отпечаток тоски о нерешенных вопросах, что остается что-то юное, что-то – хочется сказать – вечно студенческое в этом немолодом уже лице русского человека из интеллигентов.
О чем идет беседа этих двух философов?
Они пошли гулять, усталые от города, они искренне порадовались тихой свежести перелесков, «нестеровских» березок, но, увлеченные разговором на ходу, делясь друг с другом метафизическими домыслами и умозрениями, они забыли теперь и про березки и про природу; они захвачены своей беседой на тихой дорожке.
Пейзаж на «Философах» – один из самых совершенных нестеровских пейзажей, но он вовсе не «фон» для двойного портрета, как и этот, превосходный сам по себе, двойной портрет, вовсе не исчерпывает художественного содержания всего полотна. Пейзаж и портрет сливаются неразрывно в предвечернюю элегию «тихого разговора», исполненного внутренних трагических переживаний для двух собеседников, идущих путем, которым шло столько «лишних людей» Тургенева, Достоевского, Лескова, Чехова!
Михаил Васильевич – это чрезвычайно редко случалось с ним – был доволен этим полотном, написанным в конце лета 1917 года. Он всегда считал «Философов» одною из лучших своих работ. Его радовали живописная точность характеристик философов, крепкая связь их фигур с пейзажем и общий колорит полотна – мягкий, свежий, теплый, выдержанный в его излюбленной, по-новому найденной гамме: бледно-синее, зеленое, светлосерое.
В ту же осень 1917 года, но позднее, Нестеров написал «Архиерея».
Нестерову по его долгим работам в соборах довелось узнать многих архиереев – митрополитов, архиепископов, епископов, – но он не чувствовал особого интереса к их личности и деятельности.
Но одного архиерея Нестерову давно хотелось написать – Антония (Храповицкого). Нестеров знал его неординарную биографию. Антоний был потомок знаменитого статс-секретаря Екатерины II, но презирал и своего прадеда за раболепство перед Екатериной II и Екатерину II за ее «вольтерьянство»; он был тот юноша, который упал в обморок у ног Достоевского в то время, когда великий писатель произносил свою Пушкинскую речь, потрясшую сердца; он был тот молодой архимандрит, а потом архиерей, сотрудник «Вопросов философии и психологии», который в курсе «Пастырского богословия» цитировал Достоевского наряду со «святыми отцами» и за религиозное своедумство был изгнан из Московской духовной академии в Казань, а оттуда в захолустную Уфу, где его и увидал впервые Нестеров в соборе за службой.
А затем Антоний из опального архиерея, усланного Победоносцевым на смирение в уфимскую глушь, превратился во влиятельнейшего члена Святейшего синода, заступившего по своему значению место Победоносцева – этого, по определению Нестерова, «Великого Инквизитора».
Антоний стал колоритнейшей фигурой синодального православия в его последнюю, предреволюционную эпоху. Никто из архиереев не обладал таким самочувствием «князя церкви», как Антоний, и вряд ли кто другой был. таким мастером пышного обряда, внешнего архиерейского великолепия и красноречия.
В одном своем письме 1908 года (20 июля) Нестеров, рассказывая о Киевском черном соборе, на котором первенствовал Антоний, так характеризовал его: «…Антоний… человек огромного дерзновения и великого честолюбия…» – и заключил письмо словами: «Скажу тебе на ушко: более, чем с Васнецова, чешутся у меня руки написать портрет с Антония-архиепископа».
Только в 1917 году, через девять лет, руки Нестерова оказались свободны осуществить это намерение.
На предложение Нестерова позировать для «Архиерея» Антоний согласился с первого же слова.
Нестеров написал Антония в церкви Петровского монастыря. На амвоне перед закрытыми «царскими вратами» архиерей говорит «поучение». Сзади него – великолепная золоченая, пышная резьба иконостаса и иконы в ризах, тускнеющих густою позолотою.
Архиерей изображен по пояс. Он в лиловой шелковой мантии. На голове его – черный монашеский клобук с бриллиантовым крестом, на груди – золотые панагия и крест, усыпанные драгоценными камнями.
Обеими руками Антоний опирается на архиерейский золотой жезл.
Руки Антония – это первый нестеровский «портрет рук». Весь человек виден в них, в этих пухлых, холеных руках, не знавших никогда труда; эти руки привыкли к тому, что их «лобызают», как святыню; чем они немощней, бескровней при всей их пухлости, тем больше в них гордости.
Каковы руки, таково лицо. Из-под тяжелого черного клобука бледно-желтоватое лицо кажется одутловатым, вялым. Большая, тщательно расчесанная, холеная борода рыжеватого цвета еще больше подчеркивает эту мучнистую бледность, эту одутловатость лица архиерея. В лице Антония есть пышность, как в его бороде, привыкшей лежать на золотой парче. Он проповедует как власть имеющий, как князь церкви, он пользуется своим умным искусством быть смиренным в слове, и, умиляясь сам своим искусством, он умиляет свою «паству».
Вот отчего так благолепно лицо архиерея, так благообразна его «брада», так властно-неподвижны его руки, опирающиеся на «жезл правления».
«Архиерей» – превосходная живописная работа.
В ней живописец радостно отдается своему искусству, не приневоливая себя к аскетизму краски, не боясь задержаться на том, что живописно-красиво, красочно-заманчиво, и нигде не перестает он быть реалистом, не терпящим живописного «сочинительства» того, чего нет в натуре. Живописною красотою насыщен каждый вершок на этом портрете.
Удивительна лепка лица Антония: смелая, сочная, живая; удивительна незабываемая портретность рук. Художник ничего не подсказывает в характеристике Антония. Ни одного сатирического штриха нет на портрете. Превосходно выписан иконостас, пленяющий своей изысканно-изящной золоченой резьбой. Чудесно отливает всеми оттенками лилового, фиолетового, аметистового пышная шелковая мантия Антония. Суровою чернью своих строгих, почти геометрических линий выделяется клобук Антония на причудливом фоне золотой резьбы.
Но каким жутким холодом веет от этой архиерейской пышности! Лицо его кажется личиной, надетой так же на время, как надета на нем эта лиловая мантия.
Никакой ни психологической, ни историко-описательной задачи Нестеров себе не ставил, когда писал Антония. Задача была чисто живописная: его интересовало это пышное лицо, очень трудное для портретиста, его увлекала богатая красочность архиерейских одежд, его занимало это сочетание золотого с черным и лиловым, на котором колористически построено все полотно. Именно живописец, только живописец оказался создателем этого обобщенно-характерного образа, исторически емкого портрета.
Когда при Нестерове заводили речь об его живописи, он всегда недовольно морщился:
– Какой я живописец!
Но когда ему называли «Архиерея», он принужден был умолкать: невозможно было спорить, что это полотно – создание блестящего живописца.
В самые поздние годы, когда уже написано было им несколько десятков портретов, он в иной час сам обмолвливался:
– По живописи «Антоний», пожалуй, лучше других…
Бродя под Абрамцевом и уезжая к Троице и к Черниговской, Нестеров по-прежнему любил посещать те места, которые смолоду населял он своими отроками, пустынниками и «Христовыми невестами». Но он уже не скрывал тягу к встрече на полотне со своими современниками. Часто приходилось слышать от него: «Кабы я был портретист, написал бы того, другого». Было ясно: скоро Нестеров возьмет кисть портретиста и уже никогда не выпустит ее из рук. Его тропинка к портрету, робко вившаяся в 80-х годах, совсем было заглохла в 90-х годах (один портрет в десять лет); в начале 900-х годов, в эпоху первой русской революции, тропинка эта превратилась было в дорогу, приведшую художника к таким шедеврам, как «Портрет дочери» (в амазонке). Но в дальнейшие, пореволюционные, годы дорога эта опять суживается до еле заметной тропинки (два почти случайных портрета в 1914 году).