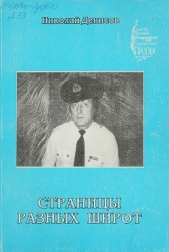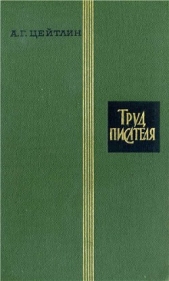Кафтаны и лапсердаки. Сыны и пасынки: писатели-евреи в русской литературе

Кафтаны и лапсердаки. Сыны и пасынки: писатели-евреи в русской литературе читать книгу онлайн
Очерки и эссе о русских прозаиках и поэтах послеоктябрьского периода — Осипе Мандельштаме, Исааке Бабеле, Илье Эренбурге, Самуиле Маршаке, Евгении Шварце, Вере Инбер и других — составляют эту книгу. Автор на основе биографий и творчества писателей исследует связь между их этническими корнями, культурной средой и особенностями индивидуального мироощущения, формировавшегося под воздействием механизмов национальной психологии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но даже при всем том, даже без проверки идей жизнью в поэме есть одна яркая, очень яркая и выразительная картина, где герой, недавний «ротный ловчило, еврейский мальчик», а теперь комиссар, делает облаву на других героев, тоже евреев, про которых ему дали знать наводчики, пожелавшие остаться анонимами, очень возможно, тоже евреи:
…на Ришельевской
В чайном домике генеральши Клеменц,
Соберутся Семка Рабинович,
Петька Камбала и Моня Бриллиантщик, —
Железнодорожные громилы,
Кинематографические герои, —
Бандиты с чемоданчиками, в которых
Алмазные сверла и пилы,
Сигарета с дурманом для соседа…
Они летали по вагонным крышам,
В крылатках, раздуваемых бурей,
С револьвером в рукаве фрака,
Обнимали сторублевых гурий,
И нынче у генеральши Клеменц —
Им будет крышка.
Баста!
Как видим, в борьбе за новую Россию — напоминаем, не большевистскую, а демократическую, февральскую Россию, когда и у самих большевиков не было еще в мыслях никакого Октября, — герой, о коем сегодняшний московский михаил-архангеловец твердит, что он норовил осеменить Расею своим паскудным иудейским семенем, идет на своих же, Семку Рабиновича, Моньку Бриллиантщика, которые, что называется, родные братья бабелевскому Бенциону Крику. Даже имя у одного из них — Моня, то есть Моисей, — не менее емкое, чем Бенцион — «сын Сиона». А насчет фамилии «Рабинович», как говорится, вообще нема чего объяснять: помните, один еврей с такой фамилией даже не выдержал и взял себе псевдоним — «Хаймович».
Так вот, поскольку зашел разговор за бабелевского Беню Крика, как тут не спросить себя: почему Бабель выбрал себе роль биографа еврейского Короля, а Багрицкий про родных братьев Короля, то есть принцев королевской крови, рассказывает так, как будто они простые бандиты со своими сторублевыми блядьми и затрушенными шалманами? А потому, повторяем мы, что Багрицкий, при всей своей романтической тяге, даже в поэме «Февраль» не смог перетащить себя целиком, со всеми своими фантасмагорическими бебехами в иудейский стан, где было у него законное место по рождению.
Конечно, в этом, как сказано выше, советская власть имеет свою особую заслугу, ибо умела-таки заставить всех этих «инженеров человеческих душ» посчитаться с ее вкусами, — не говоря уже о том, что 33-й год, когда писался «Февраль», не 23-й, когда Бабель писал своего Беню! — но, с другой стороны, нельзя же забыть, что тенденция оторваться от своих была у Багрицкого, когда на Руси держал власть еще царь-батюшка и чужие свирели влекли его слух, чужие герои пленили его ум, чужие боги ввергли его в поэтический экстаз.
«Околицей брел я, / Пути изменял, / Мечта — и нога заплеталась о ногу…» Заплеталась, и еще как заплеталась! Заплеталась до самых последних дней, когда и ступать по земле было уже не под силу, а оставалось лишь перебирать ногами на койке, которая обернулась смертным ложем. И вознести одного еврея, своего двойника, свое альтер эго мог он лишь за счет других евреев, которые, как и у Бабеля, «романтики с большой дороги», но лишенные самого главного — еврейской мудрости, еврейской печали, еврейской вековой тяги к справедливости. И потому, хотя они «кинематографические герои», хотя «они летали по вагонным крышам, в крылатках, раздуваемых бурей», хотя они одеты, как джентльмены, во фраки, «с револьвером в рукаве», они не радуют еврейского глаза, не услаждают еврейского сердца, не тешат еврейской гордости.
Но, с другой стороны, если хорошо подумать, разве мало того, что поэт, который всю жизнь воевал со своим еврейством и поносил его так, что даже гоим чувствовали неловкость, оставил нам свою песню песней: «моя иудейская гордость пела»! И разве не он, этот поэт, уже на смертном одре своем, произнес полные сыновней любви слова: «Мой родительский дом светился язычками свечей и библейской кухней»! И разве не о нем сказали враги его: «Он обрел язык для слов мести и проклятий»!
И кто может взять на себя смелость утверждать, что, если бы хватило у него дыхания еще на несколько слов, не сказал бы он те — главные — слова из псалмов прапращура его, которые обнимают все другие его слова и все дела его жизни: «Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем».
Простота неслыханной ереси
В. Катаев
— …а я вам говорю: никакого времени нет. Время — это фикция. Выдумка Эйнштейна. Сжимается, разжимается, стягивается, растягивается! Как оно может разжиматься или стягиваться, если его вообще нет!
— Валентин Петрович…
— Не перебивайте меня! Один Достоевский понимал правильно: никакого времени на свете нет, а есть просто цифры, отношение бытия к небытию. Но я сам пришел к этому, без Достоевского: времени нет, никакого времени не существует, просто нам нужны какие-то рамки, чтобы найти для себя место — вот здесь я начинаюсь, а здесь кончаюсь, — а на самом деле времени нет. Время — это выдумка Эйнштейна.
Я удивился: почему выдумка? По данным современной физики, Вселенная достаточна молода: всего 18–20 миллиардов лет.
— А до этого? — схватился Катаев. — Я вас спрашиваю: что было до этого?
— А до этого, — сказал я, — была Вечность. Кстати, Августин Блаженный в своей космогонической концепции держался того же взгляда: Вселенной, с ее субстанциями пространства и времени, предшествовала Вечность — некое состояние, которому чужды категории времени и пространства.
— Что вы мне морочите голову со своим Августином Блаженным! Я вам повторяю, никакого времени нет и не было. Порядок вещей зависит только от нас, от нашей памяти. Я могу переставить все события, как захочу. Я, старик, могу подсматривать за собой ребенком, я, маленький, могу подсматривать за собой стариком. Подождите, я знаю, вы мне скажете, это прошлое. Ну и что же, что прошлое? А что, прошлое — это фикция бытия? Значит, мы с вами минуту назад — это уже фикция?
— Почему фикция?
— Нет, — он весь подался вперед, по-стариковски сухой, угловатый, на волчьих его ушах, как определил их Бунин, вздыбились серые волоски, — вы отвечайте прямо: фикция или не фикция? Если фикция, тогда нам не о чем с вами говорить, если же вы понимаете, что это и есть само бытие, тогда ответьте мне на вопрос: о каком времени может идти речь, если я, даже не я, а моя память сама, по каким-то своим собственным законам, может переставлять все события прошлого! И прошлое от этого не теряет, наоборот, приобретает настоящий смысл.
У меня было странное ощущение игры в какую-то загадочную игру, на уме вращались всякие философские дефиниции — солипсизм, экзистенциализм, интуитивизм — в суждениях моего собеседника было намешано всего, как в лотке у коробейника, вдосталь, однако ясно было, что философия, как некая научная система, меньше всего заботит его: речь шла об очень важном, наверное, самом важном, не в общем, абстрактном смысле, а в конкретном, прагматическом, что для него, писателя, могло означать лишь одно — как писать, как изображать действительность, которая вся уже отошла в прошлое, а реставрация ее через художественное слово и претворение в часть настоящей, сегодняшней жизни целиком зависит от него.
Я дал себе слово не входить в полемику, а постараться лишь как можно лучше понять его, большого мастера, который и в преклонные свои годы — ему было тогда семьдесят восемь, когда у других, если им посчастливилось дожить до этих лет, частенько отшибает память, — сохранил поразительную ясность мысли и незаурядный талант распорядителя волшебной лавки писателя.