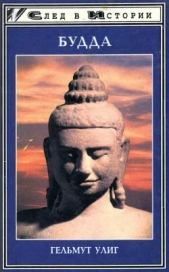Хайдеггер: германский мастер и его время

Хайдеггер: германский мастер и его время читать книгу онлайн
Книга Рюдигера Сафрански посвящена жизни и творчеству Мартина Хайдеггера (1889–1976), философа, оказавшего огромное влияние на развитие философии XX века; человека, после войны лишенного права преподавания и всеми оставленного; немца, пытавшегося определить судьбы западноевропейской метафизики и найти объяснение тому, что происходило на его глазах с Германией и миром.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Глубинная скука совершенно анонимна. Она не может быть вызвана чем-то определенным. Es langweilt einen («скучно», буквально приблизительно так: «оно / погружает в скуку / одного-неважно-какого»), – говорим мы. Хайдеггер подвергает данную фразу тонкому анализу. Она заключает в себе двойную неопределенность. Es («оно») может означать всё или ничего, но в любом случае не подразумевает что-то определенное. А под «одним-неважно-каким», конечно, имеется в виду сам скучающий человек, но как существо, лишенное конкретной индивидуальности. Как если бы скука уже поглотила «я», которое могло бы стыдиться того, что является виновником скуки. Данное выражение – es langweilt einen – Хайдеггер использовал для характеристики того мига полного отсутствия наполненного и наполняющего времени, когда никто и ничто более не предъявляет никаких требований к индивиду, не обращается к нему и не претендует на него. Хайдеггер определяет такую «пустоос-тавленность» (Leergelassenheit) как «выданность в полное распоряжение сущего, которое как Целое отказывается [чем бы то ни было распоряжаться]» (GA 29/30, 214).
В этом определении заключена ошеломляющая концепция Целого – но такого целого, которое более не имеет касательства к индивиду. Пустое Нечто противостоит пустому Целому – и в этой безотносительности друг к другу они все-таки оказываются каким-то образом соотнесенными. Здесь налицо тройственная негативность: некая не-самость, некое незначащее (нефункционирующее) Целое и отсутствие соотнесенности между ними как негативная соотнесенность. Очевидно одно: это та самая высшая или низшая точка, к которой Хайдеггер хотел подвести свой захватывающий анализ скуки. Мы оказались в самом средоточии метафизики, понимаемой во вкусе Хайдеггера. В этой же точке он достигает другой своей цели: «посредством истолкования сущности скуки добраться до сущности времени» (GA 29/30, 201). Как, спрашивает Хайдеггер, переживается время в этой ситуации полного отсутствия всего, что могло бы его – время – наполнить? Оно не хочет «проходить», оно останавливается, оно и человека удерживает в инертной неподвижности, завораживает-сковывает его (bannt). Это состояние всеохватывающего оцепенения, паралича, позволяет обнаружить, что время – не просто среда, в которой мы движемся; что оно есть нечто, порождаемое нами самими. Мы временим время, а когда мы парализованы скукой, это как раз и значит, что мы прекратили его временить. Однако такое прекращение никогда не бывает тотальным. Процесс временения, прерываясь, останавливаясь на какие-то мгновения, все равно остается связанным с потоком времени (каковой поток есть не что иное, как мы сами) – но только связанным в модусе приостановки, завороженной скованности, обездвижения.
Этот амбивалентный опыт переживания приостановки течения времени есть поворотный пункт в той драме скуки, которую инсценирует и анализирует Хайдеггер. Из ситуации «тройственной негативности» – не-самости, незначащего Целого и отсутствия отношений между ними – возможен только единственный выход: человек должен сам из нее вырваться. Если ничто более не движется, человек должен заставить двигаться себя самого. Хайдеггер обстоятельно формулирует этот свой вывод: «То, что завораживающе-сковывающее как таковое, то есть время, позволяет понять и, собственно, делает возможным… есть свобода присутствия как таковая. Ибо эта свобода присутствия состоит исключительно в самоосвобождении присутствия. А самоосвобождение присутствия происходит только тогда, когда оно решается быть самим собой» (GA 29/30, 223).
Но поскольку в состоянии скуки эта самость истончается до такой степени, что становится лишенным сущности призраком, решение, о котором идет речь, не может заключаться в возвращении к некоей компактной самости, только ожидающей момента, когда она сможет возобновить свою активность. Самость впервые рождается лишь в момент принятия решения. В некотором смысле правильно будет сказать, что ее не «находят», а «изобретают» – в процессе принятия решения. «Миг решимости» возникает из скуки и кладет этой скуке конец. Потому-то Хайдеггер и говорит о том, что «завораживающе-сковывающее (в состоянии скуки) время» не только сковывает, но вместе с тем является причиной «вынужденного пребывания присутствия на острие подлинной возможности» (GA 29/30, 224). Можно выразить ту же мысль и иначе, более доступно: в состоянии скуки человек замечает, что ничто не имеет никакого значения – и не будет иметь, если он сам это значение не привнесет…
Итак, чтобы присутствие могло пробудиться к осознанию себя самого, оно сперва должно пересечь зону глубинной скуки – «пустоты в целостности [сущего]». В этом пункте своих рассуждений Хайдеггер вдруг резко сворачивает в сторону с того пути, которым следовал раньше, и переходит от анализа скорее «приватных» и «интимных» разновидностей скуки к рассмотрению – с позиции философии культуры – современной ему общественно-исторической ситуации. Он спрашивает: продолжает ли вообще современный человек переживать как бедствие это ощущение «пустоты в целостности [сущего]», или такого рода переживания оказались вытесненными необходимой борьбой против других, более конкретных бедствий?
Вспомним, что разговор этот происходит во время зимнего семестра 1929/30 года. Уже начался процесс стремительного роста безработицы и обнищания, вызванный мировым экономическим кризисом. Хайдеггер рискнул бросить беглый взгляд на эпизоды характерных для его времени бедствий: «Повсюду потрясения, кризисы, катастрофы, беды: нынешняя нищета, политический хаос, бессилие науки, выхолащивание искусства, беспочвенность философии, бессилие религии. Конечно же, бедствия имеют место повсюду» (GA 29/30, 243). В целях борьбы с этими бедствиями разрабатываются специальные программы, создаются партии, предлагаются разные меры, активизируется всякого рода деятельность. Но, как считает Хайдеггер, именно «эта судорожная необходимая оборона от конкретных бедствий не позволяет открыться некоему бедствию в Целом» (GA 29/30, 243).
Следовательно, «бедствие в Целом» – это не какое-то отдельное бедствие, а проявление тягостности присутствия вообще, тягостности, которая ощущается как раз в настроении скуки и обусловлена тем, «что человеку вверено присутствие как таковое, что его удел – быть здесь» (GA 29/30, 246). У того, кто уклоняется от этого «сущностного бедствия» (GA 29/30, 244), отсутствует упрямое «наперекор» (Trotzdem), – употребляя данный термин, Хайдеггер подразумевает повседневный героизм. Тот, кто не ощутил жизнь как бремя – именно в этом смысле, – тот ничего не знает и о тайне присутствия, а значит, остается «чуждым тому внутреннему ужасу, который неотделим от всякой тайны и который только и придает присутствию его величие» (GA 29/30, 246).
Тайна и ужас… Хайдеггер обыгрывает здесь определение нуминозного, данное Рудольфом Отто. Отто считал важнейшим аспектом религиозного опыта («встречи со Святым») ужас перед той силой, которая предстает перед нами как тайна. Хайдеггер заимствовал у Отто определение признаков понимаемой таким образом нуминозности, но лишил их соотнесенности с потусторонним миром. Для него само присутствие нуминозно, ибо оно таинственно и внушает ужас. Ужас, по его мнению, – это достигшее драматичного апогея удивление перед тем, что есть сущее, а не, наоборот, Ничто; ужасная загадка – само сущее в его нагой чтойности. Именно о таком ужасе идет речь и в нижеследующих фразах из лекционного курса – я специально это подчеркиваю, потому что позже в них усматривали чисто политический смысл, которого в то время, когда читались лекции, они еще просто не могли иметь: «Если [главное] бедствие нашего присутствия, несмотря на все лишения, сегодня не ощущается и если исчезла тайна, то нам прежде всего необходимо обрести для человека тот базис и то измерение, в рамках которых нечто подобное только и сможет вновь предстать перед ним как тайна его присутствия. То, что при выдвижении этого требования и при попытке его осуществить сегодняшнему нормальному человеку, обывателю, становится как-то не по себе, а порой, может быть, у него и в глазах темнеет, так что он судорожно хватается за своих божков, – вполне в порядке вещей. Желать чего-то другого было бы нелепо. Сперва мы должны вновь призвать того, кто сумеет внушить нашему присутствию ужас» (GA 29/30, 255).