Бывшее и несбывшееся
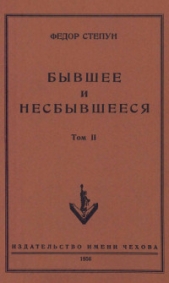
Бывшее и несбывшееся читать книгу онлайн
«Бывшее и несбывшееся» — мемуары выдающегося русского философа Федора Степуна, посвященные Серебряному Веку и трагедии 17-го года. По блистательности стиля и широте охвата их сравнивают с мемуарами Герцена и Ходасевича, а их философская глубина отвечает духу религиозного Ренессанса начала XX века и его продолжателям в эмиграции. Помимо собственно биографии Степуна читатель на страницах «Бывшего и несбывшегося» прикоснется к непередаваемо живому образу предреволюционного и революционного времени, к ключевым фигурам русского Ренессанса начала XX века, к военной действительности. Второй том полностью посвящен 17-му году: Степун был непосредственным участником тех событий. Артиллерийским прапорщиком он с фронта попадает в гущу тогдашней политики, становится начальником политуправления армии при Временном правительстве. Последние страницы мемуаров Степуна посвящены попыткам строить нормальную жизнь в новых советских условиях: театр в голодной Москве, сельскохозяйственная коммуна... Однако большевики изгонят Степуна из России. Степун предваряет свои мемуары следующими словами: «"Бывшее и несбывшееся" не только воспоминания, не только рассказ о бывшем, пережитом, но и раздумье о том, что «зачалось и быть могло, но стать не возмогло», раздумье о несбывшемся. Эта философская, в широком смысле слова даже научная сторона моей книги, представляется мне не менее важной, чем повествовательная. Я писал и как беллетрист, не чуждый лирического волнения, и как философ, как социолог и даже как политик, не замечая вполне естественных для меня переходов из одной области в другую. Близкий по своим философским взглядам славянофильски-Соловьевскому учению о положительном всеединстве, как о высшем предмете познания, я попытался подойти к нему в методе положительного всеединства всех методов познания. Врагами моей работы, с которыми я сознательно боролся, были: идеологическая узость, публицистическая заносчивость и эстетически-аморфное приблизительное писательство. [...] В противоположность туманно трепетным воспоминаниям, светлая память чтит и любит в прошлом не то, что в нем было и умерло, а лишь то бессмертное вечное, что не сбылось, не ожило: его завещание грядущим дням и поколениям. В противоположность воспоминаниям, память со временем не спорит; она не тоскует о его безвозвратно ушедшем счастье, так как она несет его непреходящую правду в себе. Воспоминания — это романтика, лирика. Память же, анамнезис Платона и вечная память панихиды, это, говоря философским языком, онтология, а религиозно-церковным — литургия».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
У изголовья в старинном бронзовом подсвечнике, купленном еще в Кондрове на распродаже вещей лишившего себя жизни князя Мещерского, горела свеча с шелковым щитком. Смотря на знакомый с детства подсвечник, я видел перед собою большой балкон нашего деревенского дома на Шане, колышащиеся на вечернем ветру за белыми щитками красноватые огни, еще совсем молодого отца за картами и себя, маленького, рядом с ним. Как это было недавно и вот, думалось мне, для него уже все кончилось… Как скоро, как страшно скоро!
В середине октября я получил известие, что отец скончался через пять дней после нашего свидания от рака желудка, без жалобы на боли и без страха перед смертью.
Чем глубже уходит в прошлое начало войны, тем удивительнее и благодарнее вспоминается мне, как простившись с отцом, я в одиноко дребезжавшей по сонным улицам Москвы пролетке ехал обратно к Никитиным. Душа не по своей воле подводила итоги прошлому и не своею силою готовилась к будущему. Время, казалось, не текло сквозь нее, а неподвижно стояло в ней, примиренной, возвышенной и печальной. Я знаю, что, если бы за двадцать минут этой предрассветной поездки ось моей души не была бы рукою самого Провидения таинственно переставлена из горизонтального положения в вертикальное, я никогда не вышел бы из испытаний войны и революции тем духовно окрепшим человеком, которым я себя ныне чувствую. Быть может, Бог чаще склоняется к нам, чем это нами ощущается. Божьей заботы о себе и я в ту ночь не почувствовал, будучи сердцем и мыслью еще слишком далеким от допущения такой возможности, но «песнь небес» в себе все же расслышал. В ту ночь в моей душе впервые возникла та мелодия, о которой я в мае 1915–го года писал жене, сейчас же после страшного боя на Сане. «Я стоял, передавал команду, а в душе звучала та, совершенно не запоминающаяся мелодия, которая как–то раз, в минуту острой опасности зародилась в моей душе и теперь каждый раз, когда близка возможность смерти, запевает себя во мне и дает силы все нести и всему покоряться».
По пути на фронт эшелон довольно долго стоял в Брест–Литовске. Была суббота. В зале третьего класса, набитого главным образом солдатами, шла всенощная. Слушая Великую ектенью (как замечательно провозглашал ее у Никиты Мученика на Старой Басманной протодьякон Холмогоров), я с новою силою ощущал несовместимость вечной красоты ее прошений о спасении «плавающих, путешествующих, недугующих и страждущих, о благорастворении воздухов, изобилии плодов земных и временех мирных», с национально–эгоистическою молитвой о «покорении под нози благочестивейшему, самодержавнейшему Великому Государю нашему всякого врага и супостата». Как жалко, что Бутурлинская комиссия при Николае I нашла необходимым «вырезать несколько неуместных стихов» из акафиста Покрову Богородицы, сочиненного святым Димитрием Ростовским: «Радуйся, Незримое Укрощение владык жестоких и зверонравных, совета неправедных князей разори, зачинающих рать — погуби».
Как утешительно было бы, если бы в наши страшные дни, в дни наступления немецких армий на ни в чем перед немцами неповинных православных греков и сербов и весьма возможного столкновения с Россией, в нашей дрезденской церкви, возглавляемой православным немцем, берлинским и потстдамским епископом Серафимом, вместо молитвы «о покорении под нози христолюбивейшему вождю германского народа его врагов и супостатов», раздавался бы Богородичный акафист Святого Димитрия Ростовского.
Впереди стояла группа легко раненых. Среди них особо выделялся долговязый деревенский парень в расстегнутой гимнастерке и шинели внакидку, с перевязанною окровавленною марлею нервно подергивающеюся головою. Временами он быстро, по многу раз кряду крестился широким, размашистым крестом, а затем как–то отсутствующе затихал, смотря в пространство усталыми, потухшими глазами. По всему было видно, что он много пережил в кровавых боях под Ивангородом, куда, вероятно, отправлялась и наша бригада, и не понимал, что с ним собственно приключилось.
Всенощная длилась долго. Все резче и заунывнее, все непонятнее на фоне службы взвывали паровозные свистки; зло шипел и желтоватою молочною мутью застилал окна спускаемый паровозами пар. Словно в ответ ему умиротворяюще клубился вверх сиреневый кадильный ладан. Желтые свечи сиротливо, но все же утешительно горели в прокопченном вокзальном углу. Кое–кто из солдат тихонько подтягивал хору, то одну, то другую ноту.
Батюшка служил с искреннею верою и, не смущаясь войной, убежденно возглашал «яко благ и человеколюбец Бог еси».
В том философски–мистическом настроении, в котором я находился со дня смерти моей первой жены, я точного смысла этого возгласа еще не осиливал. Бог представлялся мне скорее гениальным автором глубокомысленной мировой трагедии, чем благим Творцом; Христос скорее протагонистом хора страждущей твари, чем единородным Сыном Божиим и моим Спасителем.
Не пережив периода воинствующего атеизма и отрицания Евангелия, я под влиянием мистиков, Шеллинга и античной трагедии, долго пытался осмыслить христианство в духе религиозно–символического ознаменования глубинных судеб мира. Ныне я знаю, что христианская философия мыслима только на путях безоговорочного отречения от философствующего христианства. Нужна и возможна философия твердо и искренне верующих христиан, но невозможно и ненужно ни философское обоснование, ни философское истолкование христианства.
Часто мечтается со временем по–новому вернуться к своим старым философским вопросам. Боюсь, однако, что написать свою философию уже не успею: слишком мало осталось времени, жизнь со страшною быстротою катится к своему концу…
В догадках и разговорах о том, куда нас везут, мы доехали до Лукова, где вдруг был получен приказ о высадке. Кое–как устроив Наташу в маленькой комнатушке вонючей местечковой гостиницы, я быстро вернулся на вокзал, где батареи второго дивизиона одна за другой уже выкатывались на шоссе.
Первая ночь в Лукове была, быть может, самою жуткою ночью из всех пережитых на войне. Мы расположились бивуаком между лазаретом, кладбищем и платформою, у которой беспрестанно выгружались санитарные поезда, прибывавшие из–под Ивангорода. Ночью, когда я с трудом пробираясь между медленно двигавшимися носилками с ранеными по левой и спешащими обратно пустыми носилками по правой стороне, ехал к Наташе в гостиницу, мне впервые было по–настоящему страшно. Вероятно потому, что душа еще жила мирной жизнью, мир же уже кипел войной.
Прощание с Наташей за несколько часов до нашего выступления, скорбное, но и прекрасное, оторвавшее меня от мирной жизни и тем самым окончательно отпустившее на войну, сразу же потушило в душе всякий страх перед нею. Подъезжая в шесть часов утра вместе с Семешей, трусившим позади меня с огромным горшком сметаны, которую Наташа успела купить на рынке в подарок батарее, к нашему бивуаку, я, чувствовал себя совсем другим человеком, чем ночью.
Уже после отъезда Наташи оказалось, что мы не идем в бой, а спешно грузимся во Львов, включенный ныне с соизволения Гитлера в Союз Советских Социалистических республик. Сердце этой победе не радуется. В конце концов, Советский Союз все же Россия и его преступные завоевания лишь омрачают ее образ. А кроме того: разгар националистических страстей в современной Европе до того отвратителен, что невольно хочется уберечь от него «свою» Россию. Вера в ее добрую силу, несмотря на все творящиеся в ней ужасы, так крепка, что она все еще видится скорее заступницей, чем поработительницей других народов.
Я уже много раз говорил об изумительных свойствах памяти, которая, помимо нашего сознания и нашей воли, неустанно передумывает нашу жизнь. Этою таинственною работою памяти я и объясняю в себе то, что живущий ныне во мне образ войны далеко не во всем совпадает с теми ее зарисовками, что были мною в свое время даны в письмах с фронта.
Перечитывая эти письма, изданные по настоянию М. О. Гершензона, я удивляюсь сколько в них горечи и гнева: «Нет, пусть мне не говорят о священном смысле ведомой нами войны, Ей–Богу, убью и рук омыть не пожелаю».


























