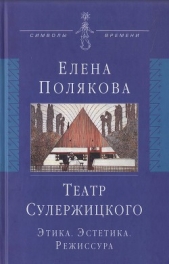Режиссерские уроки К. С. Станиславского
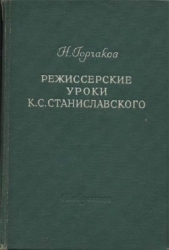
Режиссерские уроки К. С. Станиславского читать книгу онлайн
Книга Н. Горчакова «Режиссерские уроки К. С. Станиславского» очень своеобразна по своему литературному жанру. Основанная главным образом на стенографической записи репетиций Станиславского, она находится на грани воспоминаний и документального произведения. Эта особенность книги придает ей большой интерес, ибо в ней — живой опыт Станиславского, в ней великий режиссер выступает в самом процессе своей творческой работы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Башле за много лет жизни в провинции, конечно, присмотрел себе давно квартиру в бельэтаже. Может быть, и дом-то весь из двух этажей, но все равно он живет в «бельэтаже». А наверху, в мансарде, живут молодые: Ивонна, Анри, Жермен.
Главная комната в бельэтаже — это та, в которой камин и большой стол. У камина всегда отдыхает хозяин или хозяйка дома. Это символ домашнего очага, а за столом собирается вся семья. За этим столом обедают по субботам и воскресеньям, остальные дни обедают на кухне. Кухни там очень чистые, плиту каждый день после приготовления пищи моют и накрывают скатертью. Кухня у них — «святая-святых» и, сказать по правде, самое живое и уютное место в доме.
Камин должен быть в своем роде семейным жертвенником. Внизу пылает огонь, на каминной доске стоят старинные, обязательно серебряные подсвечники — помните, они описаны у Гюго в доме какого-то епископа, еще кто-то у него крадет их…
— Это в «Отверженных», Константин Сергеевич.
К. С. Совершенно верно. Это его лучший роман, и, кажется, половина романа тоже происходит в провинции?
— Все начало романа, Константин Сергеевич.
— Значит, я прав, когда говорю, что французы сами считают, что дух старой Франции больше всего сохраняется в небольших французских городах, а не в Париже. Вернемся к камину. Про серебряные подсвечники обычно существует семейная легенда. Кем и когда они получены? Обычно их история относится к прадедам: «О, се mon grand-pere, qui les a recu» [43], Затем они переходят к старшему сыну, когда тот женится, но всегда остаются в доме его родителей, до их смерти. Между подсвечниками стоят в рамках два-три портрета: фотографии самых почетных членов семьи — отца, матери, бабушки или дедушки.
У Башле, конечно, стоит фотография Анри в походной военной форме, снятая в день его ухода в армию.
Это уж обязательно. Фотография сына в военной форме — большая драгоценность в доме Башле. Каминная доска покрыта бархатом с помпончиками. Около подсвечников стоит какая-нибудь ерунда — безвкусные статуэтки из терракотты. Но их кто-то кому-то когда-то подарил, и… вам опять расскажут целую семейную историю об этих реликвиях мещанского буржуазного уюта.
В вазах листья прошлогоднего клена. «Не правда ли, как это красиво?» — обязательно скажет вам кто-нибудь из членов семьи среднего возраста, вздохнет и добавит: «Осень!» Это, конечно, игра, но так надо, зная, что ты еще молода, но когда-нибудь все равно состаришься: сыграть грусть и покорность судьбе при взгляде на золотые осенние листья.
Это хороший тон — «красиво покоряться судьбе», заранее предвидеть ее. На людях. А потихоньку можно еще долго жить с гувернером сына. Но! Чтобы никто не знал! Никто! Иначе скандал. Иногда, конечно, все это знают. Но все делают вид, что ничего не знают.
Все стулья, кресла, диван — в накладочках, прошивочках, подушках. Каждая только на своем месте. Боже избави переложить одну на место другой. Статуэтки, книжки, подушечки должны лежать и стоять, как это было при «grand-pere» или «grande-mere».
А лампа на камине! Кажется, что она была еще римским светильником! Потом ее переделали в керосиновую, потом в газовую, а теперь она электрическая! Она так необычна по форме от всех этих переделок, кажется такой древней, так любовно с ней обращаются! Она более близкий член семьи, чем старая кошка и дворовая собака. Те умирают, а она уже прожила сто лет и собирается жить еще столько же.
А каминные щипцы! Попадаются иногда действительно очень старые, с гербами и коронами. Такие щипцы как бы свидетельствуют о некоторой интимной связи их теперешних владельцев с древней, феодальной аристократией Франции. «Откуда у вас такие щипцы?» — невольно заинтересуетесь вы. Лучшего вопроса от вас и не требуется. С таинственной усмешкой глава дома, поглядывая на чугунную коронку, которой кончаются ноги щипцов, скажет: «Знаете, говорят, что они принадлежали владельцу замка «Шато ля-Тур»… Вы проезжали его — он в семи километрах от города, на горе. Теперь это, конечно, развалины. Но моя прабабка помнила последнего отпрыска старинного рода и даже, говорят, была с ним в неплохих отношениях! так вот… — не договорит своей мысли из скромности ваш собеседник, — …эти щипцы будто бы из замка». И снова бросит таинственный взгляд на щипцы, а вы вспомните, что видели почти точно такие же и у своей бабушки и у тетки, а на одних коронки просто были довольно грубо приварены, не составляя никак целого литья. В вашем уме может мелькнуть догадка о подлинности этих «старинных» щипцов. Не вздумайте об этом заикнуться вслух. На вас так же обидятся, как если бы вы сказали что-нибудь неприличное в присутствии молодых дочек почтенного буржуа.
Для чего я вам все это рассказываю? Чтобы вы хорошо ощутили ту атмосферу, в которой протекает жизнь среднего французского буржуа.
Быт этих людей определяет и их психологию. Иначе не может быть. Быт у них — ритуал, который раз навсегда заведен и никто не вправе его нарушить.
«Папа отдыхает свои полчаса в кресле у камина». И все ходят на цыпочках потому, что таков ритуал. «Мама пошла проведать кюре, не рассердите ее, когда она вернется после благочестивой беседы», — ритуал. «Малыши готовят свои уроки, не мешайте им» — ритуал. «Анри, Ивонна заперлись в своих комнатах — они тоскуют. Знаете, такой ведь возраст» — ритуал. Анри и Ивонна обязаны запираться в своих комнатах, хотя им, может быть, совсем не хочется «тосковать», но отец сказал: «Ты бы пошел посидеть один у себя, Анри». И Анри понимает, что так надо, так делали все в их семье — это ритуал. Он идет и преспокойно спит двенадцать часов напролет, но ритуал соблюден.
И Ивонна, старшая дочка, обязана ходить томной, грустной — хочется ей или не хочется; и малыши привыкают обманывать, что они готовят свои уроки — им никто не мешает в эти часы.
И мама не всегда «навещает кюре», когда уходит из дому. И папа не отдыхает у камина, а потихоньку рассматривает парижский номер полуприличного журнальчика, который он выпросил на вечер у сослуживца.
И все, начиная от «малышей» (им уже лет по двенадцать-четырнадцать), всё это знают и про себя и про старших, но все выполняют ритуал, потому что так надо, так заведено, потому что это «комильфо».
И чувства после первых шалостей, горестей, первых вздохов и поцелуев любви тоже становятся ритуальными.
Вот печальные известия с фронта. Вот новый скорбный список убитых (его читают в первой картине вашей пьесы). Вы играете это место так, как мы, русские, чувствовали и переживали эти моменты во время войны. Сдержанно, серьезно, просто, искренно.
Но вот этот список читают во французской семье Башле. Немножко, совсем немного, но дрожит голос у Жермен. Вероятно, это искренне: Анри ее муж, она еще его любит — она недавно замужем. Список прочтен, имени Анри в нем нет. Глубокий вздох Башле-отца. Глаза поднялись к небу («Благодарю тебя, боже!»), потом пошли книзу (это за тех, кто был в списке), потом ничего не значащая фраза, потом: неожиданно рука закрыла глаза, потом встал, одернул домашний пиджак, поправил воротник — словом, «взял себя в руки» и быстро ушел из комнаты.
Кто-то обязан сказать: «Ах, папа так глубоко чувствует, но старается не показать нам своего горя! От Анри два месяца ничего нет! А у себя в комнате отец сейчас, наверно…» и многоточие в интонации, в неоконченной фразе.
А на самом деле «папа» очень искренне разыграл сцену по лучшим канонам французской мелодрамы, а выйдя из столовой, может быть, и не дошел до своей комнаты, а свернул в сторону по внезапному и совсем уже неотложному делу!
— Значит, они наигрывают свои чувства, Константин Сергеевич, — раздается чей-то удивленный и несколько даже испуганный возглас.
— Нет, — спокойно отвечает К. С. — Это вошло у них в плоть и кровь так выражать свои чувства. По-другому, более сильно — неприлично. А если более сдержанно выражать чувства, кто-нибудь скажет: он сухарь!
Нет, они искренне верят, что они страдают, любят, ревнуют! Для французов это правдиво. Для нас — «не совсем».