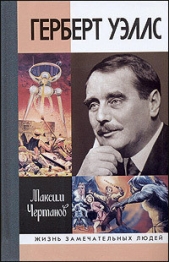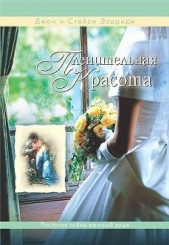Железная женщина

Железная женщина читать книгу онлайн
Марию Закревскую по первому браку Бенкендорф, называли на Западе "русской миледи", "красной Матой Хари". Жизнь этой женщины и в самом деле достойна приключенческого романа. Загадочная железная женщина, она же Мария Игнатьевна Закревская – Мура, она же княгиня Бенкендорф, она же баронесса Будберг, она же подруга «британского агента» Р. Локкарта; ей, прожившей с Горьким 12 лет, – он посвятил свой роман «Жизнь Клима Самгина»; невенчаная жена Уэллса, адресат лирики А. Блока…
Н. Берберова создает образ своей героини с мастерством строгого историка, наблюдательного мемуариста, проницательного биографа и талантливого стилиста.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Уэллс обожал этот дом с первого дня, как заложил первый камень, и до того момента, когда ему пришлось оставить его. Всю жизнь он мечтал о таком доме, в райском климате, в центре средиземноморского побережья. Все должно было быть удобным и красивым: удобным ему для писания его книг о перестройке мира, воспитании человечества, о – если потребуется – насильственном его приобщении к прогрессу и красивым для того, чтобы каждое утро радоваться ему и восторгаться им и приглашать гостей – именитых, знаменитых, влиятельных и умных мужчин и родовитых, элегантных и умных женщин, – которые бы восторгались им тоже.
И когда дом был готов, он почувствовал, что та, с которой он собирался жить всю жизнь (ему было шестьдесят лет, ей было тридцать восемь), оказалась женщиной ревнивой, циничной, болтливой, требовательной, тщеславной, подавляющей его своими капризами.
Она была наполовину голландка, наполовину итальянка, и всюду в послевоенной Европе чувствовала себя как дома, и нигде не могла, да и не хотела, ужиться. Женщины ее поколения, кочевавшие в те годы по миру с большими денежными возможностями, с огромной долей дерзости, если и не обладали молодостью и красотой, то несомненно обладали вкусом в одежде, умением держать себя с окружающими, были в меру начитанны, а главное – совершенно свободны: свободны от мужей, детей, привычек и взглядов прошлого времени; они пришли на смену тем женщинам-птицам, или женщинам-львицам, которые в прошлом поколении всегда носили на себе печать жертвы мужчин, всегда – за редкими исключениями – проигрывая свою игру и как-то жалко заканчивая свою жизнь то под колесами поезда, то приняв яд, то спиваясь и нищенствуя в какой-нибудь европейской богадельне, где им не вставляли зубов и не красили волос и где какой-нибудь новый остроглазый Золя мгновенно догадывался, что именно с ними произошло.
Одетт Кеун пришла в 1920-е годы владеть миром, взять мир приступом, кусать и царапать всех, кто ей в этом мог помешать; она вела себя так, как вели себя многие женщины ее поколения, освобожденные раз и навсегда от викторианской морали и научившиеся по-новому разговаривать с себе подобными: писать книги? Она может. Она уже издала одну – описание своего путешествия в Советскую Россию (она писала по-французски, книга называлась «Под Лениным», и Уэллс написал о ней лестную рецензию – это было поводом к знакомству). Рисовать пейзажи? Она считала, что прекрасно это делает. Никто не понимал музыку, как она, и о балете и международной политике она имела (по ее пониманию) самые блестящие и неожиданные суждения.
Уэллс, переехав в свой новый дом, на который приезжали любоваться знакомые и незнакомые, очень скоро понял, что две задачи ему будет трудно и, может быть, даже невозможно разрешить: во-первых – как продолжать жить с Одетт и, во-вторых, – как с ней расстаться. Она не только не позволяла ему отлучаться из дому больше, чем на несколько часов, но она была из той породы, которая, если дело дойдет до кризиса, обратится к сыщику и устроит за ним слежку, и доведет дело до газет, если не до суда, вконец разорит его и – увы! – опозорит.
Злясь на самого себя, он тем не менее начал борьбу и время от времени выезжал по своим литературным и общественным делам в Лондон, не говоря уже о делах семейных и свидании с сыновьями, с которыми, всеми тремя, он был всегда в самых лучших отношениях. Там, в Лондоне, он был членом нескольких клубов; у него всегда По меньшей мере одна книга находилась в печати; он встречался с мировыми знаменитостями, какой был сам, – обедал с Черчиллем (и польщен был Черчилль, не Уэллс), завтракал с Бивербруком и Ротермиром, державшими в руках лондонскую популярную прессу, кружился среди поклонников и поклонниц, каждое его слово встречавших с восторгом. Его рвали на части – приглашали в ложу Ковент Гардена, на прием к леди Колефакс. В его лондонском доме, все еще хранящем дух его прошлой свободной жизни, было тихо и уютно, и тысячи книг стояли на полках, и телефон звонил – не прямо к нему, но к секретарю, который ограждал его от ненужных ему посетителей, друзей, читателей, почитателей, влюбленных женщин, от неуважительных и неуважаемых критиков и назойливых собратьев по перу.
То, что он не считал ночь с Мурой пустяком, о котором можно легко забыть, доказано тем фактом, что он, вернувшись тогда из России без обиняков сказал Ребекке, что он «спал с секретаршей Горького». Уэллс не любил изысканных выражений и называл излишнюю деликатность лицемерием. Ребекка, хотя и считала себя передовой женщиной, и взяла свой псевдоним, как известно, из «Росмерсхольма» Ибсена, долго плакала. Но прошло пять лет, и он сказал о том же Одетт Кеун. Одетт пришла в неистовство, запретила ему ездить и в Париж, и в Лондон и грозила разбить какой-то очень красивый и дорогой предмет, который стоял у него на камине. Теперь она каждый раз, как он выезжал, писала ему ежедневно о том, что ей совершенно нечего делать в доме на Ривьере и что она покончит с собой, если он сейчас же не вернется. Но он не возвращался, и к концу 1920-х годов, как сообщают его биографы, от регулярной переписки с Мурой он перешел к регулярным встречам с ней.
Джейн знала обо всем, у него была привычка выбалтывать ей все: она знала про его роман с Амбер, у которой от него была дочь, знала о десятилетней связи его с Ребеккой и о связи с графиней Елизаветой фон Арним, с которой он все еще продолжал вести дружбу. И конечно – про Одетт Кеун и про его дом на Ривьере. И когда Мура приехала к завтраку, она знала и про «горьковскую секретаршу», но она была уже настолько тяжело больна, что ее это не беспокоило. Мура пробыла в Эссексе до вечера и увидела, как убит Уэллс приговором докторов: Джейн умерла в том же году, не дожив до зимы. Но Мура знала, что главное препятствие не было устранено, и он сам не делал секрета из того факта, что во Франции оставалась его любовница и он не был свободен: оба знали, что Одетт была женщиной, которая не собиралась легко его уступить.
Уэллс теперь сознавал, что жизнь Муры с Горьким идет к концу, что Горький решил поехать в Россию будущей весной (1928 год) [55], попробовать пожить там, посмотреть на достижения и превращения и выяснить, хватит ли у него здоровья, чтобы жить там постоянно, если не в Москве, так в Крыму. Гонорары Госиздата становилось получать все труднее в связи с новыми запретами на вывоз денег из Советского Союза. По рассказам Муры Локкарт знал, что все эти годы она вела корреспонденцию Горького на трех языках (по-русски он всегда писал сам и всегда от руки). Она говорила, что он поступает правильно и что она всегда знала, что это случится, и была к этому готова. Но что Горький на это решится не немедленно, она тоже знала; могло пройти несколько лет (и состояться несколько поездок в Россию), прежде чем он сделает окончательный шаг.
Затем Уэллс стал появляться на лондонском горизонте все реже: у него было слишком много обязательств, намерений, планов, обещаний, данных направо и налево, публичных выступлений и давняя привычка выпускать по одной книге в год, или во всяком случае – стараться это делать. Романы его чередовались в эти годы с книгами политическими, многие называли их философскими: как переделать мир, как всем стать счастливыми, как вести человечество к прогрессу. И эта новая его стадия, окончательно укрепившаяся в конце 1920-х годов, с ее проклятыми вопросами, которые надо было разрешать, но разрешения которым не было, вела к еще более проклятым: а что, если человечество не захочет идти к прогрессу, нужно ли будет (и можно ли?) бить его палкой по голове, чтобы оно шло, куда требуется?
Параллельно с этим росла его особая болезненная реакция на критику. «Никто не смеет меня судить! Я все знаю, я знаю, что мне и вам всем нужно, а вы пытаетесь не слушать меня». Он ругал королевский дом, католическую церковь, а когда никто на это не обращал внимания и всерьез его не принимал, он впадал в ярость.
Стараясь примирить идею полной свободы и демократии с неким "орденом самураев», к которому он сам будет принадлежать, он говорил, что приниматься туда будут только достойные, а судить о том, кто достоин, будет он же. Прижив несколько незаконных детей, он говорил о женском равноправии и о свободе пола.