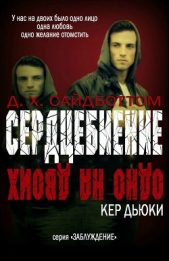Портреты современников

Портреты современников читать книгу онлайн
Поэт и журналист С. К. Маковский вспоминает знаменитых художников, музыкантов, поэтов начала 20-го века. (К.Маковский, Вл. Соловьев и Георг Брандес, А. Добролюбов, Шаляпин, Дягилев, И.Анненский, Вяч. Иванов, М.Волошин, Черубина де Габриак, Качалов, Мандельштам, А. Бенуа.)
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он стал «аполлоновцем» в полной мере, художником чистейшей воды, без уклонов в сторону от эстетической созерцательности. Впоследствии, в годы революции, которую он пережил очень болезненно (может быть, даже до потери умственного равновесия), он стал другим, иносказательно философствующим на социальные темы… Но сейчас я говорю о юном Мандельштаме, о годах «Аполлона». Тогда к поэзии сводилась для него вся жизнь, а поэзия представлялась ему преображением мира в красоту — и ничем больше. И добивался он этого преображения всеми силами души, с гениальным упорством — неделями, иногда месяцами выискивая нужное сочетание слов и буквенных звучаний. Писал немного, но сочинял, можно сказать, непрерывно, только и дышал магией образов и музыкой слова. Эта магическая музыка сплошь да рядом так оригинально складывалась у него, что самый русский язык начинал звучать как-то по-новому. Объясняется это, вероятно, и тем отчасти, что он не ощущал русского языка наследственно своим, любовался им немного со стороны, открывал его красоты так же почти, как красоты греческого или латыни, неутомимо вслушиваясь в него и загораясь от таинственных побед над ним.
Вот — хотя бы в следующих стихах (из первого сборника «Камень») о зимнем Петербурге с дворниками в «овчинных шубах», напоминающими поэту скифскую Россию, когда Овидий пел, «мешая Рим и снег», «арбу воловью», — разве не гремит русский ямб с какой-то неслыханной силой?
В походе варварских телег.
Здесь, помимо пушкинского урока («Еще усталые лакеи на шубах у подъезда спят»), «арбу воловью», конечно — не совсем по-русски (мы не скажем «лошадиная карета» или «ослиная повозка»). Но в строке Мандельштама как будто и убедительно: древняя овидиева «арба» тут неразрывно спаяна с образом волов в варварском походе и становится она воловьей, как, скажем хомут (лошадиный).
Мандельштам трудился самоотверженно над «материалом» слов, создавая прекрасное из их «недоброй тяжести», но иногда и неточно понимал их (например, «в простоволосых жалобах ночных», «простоволосая шумит трава»), и склонял их неверно («в песку зарылся амулет»), и выдумывал их произвольно («безъязыкий»), и, наконец, связывал одно слово с другим на основании слишком уж отдаленных ассоциаций:
Вообще слова у Мандельштама часто не совпадают с прямым своим смыслом, а как бы «намагничены» из-внутри и втягивают в себя побочные представления. Поэтому и к неправильностям и вычурам его словоупотребления иначе относишься, чем к неправильностям и вычурам у других поэтов, менее искренних, менее правдивых и вдохновенно-ищущих.
Неутомимость творческого горения (откуда и сочинительская техника) чувствуется почти в каждой строке молодого Мандельштама, Дальше всего эти любовно выношенные строки — от импровизации и от поверхностного блеска. Их красноречие обдуманно-скупо, подчас — до замысловатой краткости. Вот уже где «словам тесно»! Художественные длиноты или поэтические клише, или сорвавшиеся с языка обычности исключаются при таком отношении к искусству: образ, как и мысль поэта, приобретает глубоко личный характер, оттого часто — не до конца понятный, даже смутный, загадочный… Но разве не этим именно и отличается символизм как школа, как стихотворный стиль?
Началось во Франции, на смену описательной четкости Парнасцев, со Стефана Маллармэ, углублявшего, насыщавшего скрытым содержанием стихи до того, что сплошь да рядом приходится их разгадывать, как ребусы. Сам он называл многоликие образы свои — гиперболами. В русской «новой» поэзии последователями этого словесного герметизма сделались символисты: Блок, Анненский, Вячеслав Иванов. В этом смысле и Осип Мандельштам — символист прирожденный, хотя и не в том мистическом и даже эзотерическом духе, какой придавали этому понятию Андрей Белый и, отчасти, Блок.
Символизм — это, прежде всего, сжатость образного мышления, сжатость доводимая иногда (например, у позднего Маллармэ) до криптограммы. Несколькими словами, одним словом-метафорой выражается сложная ветвистая мысль или сложное ощущение и, чаще всего, такая мысль и такое ощущение, каких и не сказать иначе, разложив на составные части. Слово при этом теряет свое прямое значение или, — даже не теряя его, — как бы преображается от соприкосновения с другими словами, отвечая глубинным и подчас неясным для самого автора переживаниям.
Такими криптограммами «в зародыше» представляются мне у Мандельштама, например, образы в следующих «крымских» стихах (начинаю с четвертой строфы, — курсивы мои).
4.
5.
6.
Не менее характерны для Мандельштама такие строки:
или –
или –
или –
Не буду «объяснять» гиперболики этих образных определений. Полагаю, что всякий, кто чувствует новую поэзию, их почувствует, вчитавшись в стихотворения, из которых они взяты. Я говорю — новую поэзию, потому что, разумеется, такой прием, такую сжатость образного определения — «как прялка, стоит тишина» — невозможно представить себе, скажем, у Пушкина, у Лермонтова, вообще — в поэзии до-символической. Один Тютчев иногда доводит выраженное ощущение или мысль до этого магического лаконизма. Таковы его уподобления зарниц «демонам глухонемым» или брызнувшего грозового дождя пролитому Гэрой «громокипящему кубку». Это еще не «гипербола» Маллармэ, но уже символика.
У Мандельштама она — сплошь. Подвергнуть эту «магию» логическому разбору подчас трудно и даже невозможно, но не кажется она искусственным, претенциозным, ничего в конце концов не выражающим словоизлишеством — как у многих символистов. Мандельштамовская магия согрета искренним чувством, — может быть это и есть в ней самое пленительное. От строф, словно высеченных из мрамора или отлитых из бронзы — на самые неличные, самые далекие темы — никогда не веет холодом. Потому что эти далекие темы действительно его любовь, его страдание и его счастье, его душа, приявшая миры, созданные творческим воображением. О чем бы он ни грезил: о прошлом возлюбленной средиземноморской земли, о легендарной Тавриде, о скифском варварстве или о древней Москве с «пятиглавыми соборами» или о современном умирающем Петрополе с Исаакием, стоящим «седою голубятней», или о богослужебной торжественности полудня, — рассказ об этих видениях насыщен восторгом сердца. И больше того: живое, конкретное впечатление переходит в образ какой-то трансцендентной сущности. Мандельштам, лучше, чем кто-нибудь, понял урок великих французских новаторов и связал русский стих с «сюрреалистическими» прозрениями века… Но и по темам, и по религиозному акценту эти стихи остаются русскими, в самой отвлеченности их таится великая любовь поэта и к русским судьбам, и к русской вере: