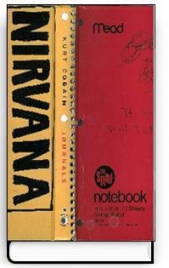Дневник 1953-1994 (журнальный вариант)

Дневник 1953-1994 (журнальный вариант) читать книгу онлайн
Дневник выдающегося русского литературного критика ХХ века, автора многих замечательных статей и книг.
***
В характере Дедкова присутствовало протестное начало; оно дало всплеск еще в студенческие годы — призывами к исправлению “неправильного” сталинского социализма (в комсомольском лоне, на факультете журналистики МГУ, где он был признанным лидером). Риск и опасность были значительны — шел 1956 год. Партбюро факультета обвинило организаторов собрания во главе с Дедковым “в мелкобуржуазной распущенности, нигилизме, анархизме, авангардизме, бланкизме, троцкизме…”. Комсомольская выходка стоила распределения в древнюю Кострому (вместо аспирантуры), на газетную работу.
В Костроме Дедков проживет и проработает тридцать лет. Костромская часть дневника — это попытки ориентации в новом жизненном пространстве; стремление стать полезным; женитьба, семья, дети; работа, постепенно преодолевающая рутинный и приобретающая живой характер; свидетельства об областном и самом что ни на есть захолустном районно-сельском житье-бытье; экзистенциальная и бытовая тяжесть провинции и вместе с тем ее постепенное приятие, оправдание, из дневниковых фрагментов могущее быть сложенным в целостный гимн русской глубинке и ее людям.
Записи 60 — 80-х годов хранят подробности методичной, масштабной литературной работы. Тот Дедков, что явился в конце 60-х на страницах столичных толстых журналов критиком, способным на формулирование новых смыслов, на закрепление достойных литературных репутаций (Константина Воробьева, Евгения Носова, Виталия Семина, Василя Быкова, Алеся Адамовича, Сергея Залыгина, Владимира Богомолова, Виктора Астафьева, Федора Абрамова, Юрия Трифонова, Вячеслава Кондратьева и других писателей), на широкие сопоставления, обобщения и выводы о “военной” или “деревенской” прозе, — вырос и сформировался вдалеке от столичной сутолоки. За костромским рабочим столом, в библиотечной тиши, в недальних журналистских разъездах и встречах с пестрым провинциальным людом.
Дневники напоминают, что Дедков — работая на рядовых либо на начальственных должностях в областной газете (оттрубил в областной “Северной правде” семнадцать лет), пребывая ли в качестве человека свободной профессии, признанного литератора — был под надзором. Не скажешь ведь негласным, вполне “гласным” — отнюдь не секретным ни для самого поднадзорного, ни для его ближнего окружения. Неутомимые костромские чекисты открыто присутствуют на редакционных совещаниях, писательских собраниях, литературных выступлениях, приглашают в местный “большой дом” и на конспиративные квартиры, держат на поводке.
Когда у Дедкова падал исповедальный тонус, он, исполняя долг хроникера, переходил с жизнеописания на бытописание и фиксировал, например, ассортимент скудных товаров, красноречивую динамику цен в магазинах Костромы; или, став заметным участником литературного процесса и чаще обычного наведываясь в Москву, воспроизводил забавные сцены писательской жизни, когда писателей ставили на довольствие, “прикрепляли” к продовольственным лавкам.
Дедков Кострому на Москву менять не хотел, хотя ему предлагали помочь с квартирой — по писательской линии. А что перебрался в 1987-м, так это больше по семейным соображениям: детей надо было в люди выводить, к родителям поближе.
Привыкший к уединенной кабинетной жизни, к неспешной провинции, человек оказывается поблизости от смертоносной политической воронки, видит хищный оскал истории. “Не с теми я и не с другими: ни с „демократами” властвующими, ни с патриотами антисемитствующими, ни с коммунистами, зовущими за черту 85-го года, ни с теми, кто предал рядовых членов этой несчастной, обманутой, запутавшейся партии… Где-то же есть еще путь, да не один, убереги меня Бог от пути толпы ”
…Нет, дневники Игоря Дедкова вовсе не отрицают истекшей жизни, напротив — примиряют читателя с той действительностью, которая содержала в себе живое.
Олег Мраморнов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
25.4.62.
<....> Вчера был вечер поэзии Луговского в библиотеке. Народу было очень мало. Асеев и Межелайтис собирали больше. Говорил и я. Неважно, без подготовки. В углу зала сидел в штатском майор <госбезопасности> и откровенно записывал нужное. Я увидел его сразу, как пришел в библиотеку, но ребятам не сказал, боялся, что начнут нервничать. Когда шли домой, Виктор Бочков [12] спросил, знаю ли я того типа в углу. Я сказал, что знаю. Мы сказали о Лаврове и Мише. Судя по его лицу, он не испугался. А может быть, и испугался. Ему это, кажется, впервой. А я вроде бы давнишний поднадзорный. Пришел домой, настроение испорчено. Зачем он приходил, чего ему надо, чего надо им всем, чего они боятся, кого они боятся? Одна из "непричесанных мыслей" Ежи Леца звучит примерно так: "Входя в душу ближнего, вытирайте ноги". Хотя бы вытирали ноги.
В четвертом "Новом мире" прочитал сегодня Эренбурга [13]. И труднее стало, и легче, мои переживания показались мне микроскопическими. Главное - не надо бояться.
Сегодня Кеннеди отдал приказ о начале наземных ядерных испытаний. Еще один шаг к концу. Удивительно бесчеловечный век. А ведь время человечности кажется таким недалеким, люди заждались человечности. <...>
23.6.63.
Вчера исполнилось 22 года с начала последней войны. Поколения получили с тех пор жизнь. Они совсем не помнят войну, они изучают или будут изучать ее в школе. А я помню первый день войны, и второй, и третий, и многие, многие другие. Значит, я уже совсем не молодой человек. Помню, в сорок третьем году мы были во Фрунзе, и я каждый день с судками ходил в столовую получать какой-то обед. Верно, это был папин обед, он приехал тогда с фронта учиться в инженерную академию, которую перевели из Москвы во Фрунзе. Запахи этих обедов я помню до сих пор, и иногда они вспоминаются мне посреди улицы, и тогда я замедляю шаги, припоминая, какой это суп мог так пахнуть. Однажды мен сбил велосипедист, ехавший по тротуару. Я пролил суп, мигом впитавшийся в горячий киргизский песок. (Мы жили на Пишпеке, там не было асфальтированных дорожек.) Выпал из кастрюльки и кусок брынзы, выданный на второе. Дома на меня сильно кричал отец, он ударил меня за то, что я не подобрал эту брынзу: ее можно было бы обмыть и съесть. Папины обеды мы ели все вместе - вчетвером. Я многое забыл, но этот кусок брынзы - белый, разомлевший на жаре - я хорошо помню без всякой обиды на отца.
Детство мое в военные годы я вспоминаю как далекий горячечный бред. Лишь немногие картины я храню в себе с радостью, немногие ощущения.
На будущий год мне - тридцать, а я все еще кажусь себе юношей студенческой поры. Я не жалею, что из всех возможных выбрал "костромской" путь. Жаль только, что здоровье, нервы, умственная энергия так часто расходовались на дело казенное, конторское, на три четверти бесполезное, на людей фальшивых, недалеких и самодовольных. Там, на триста семьдесят шестом километре от Москвы, я открыл, что служба требует не ума и творчества, а послушания и ремесленничества. Ум и творчество - это сугубо добровольное и беспокойное приложение к служебной нуде, которое ты делаешь в силу угнездившихся в тебе идеалов...
Здесь каждый день идут дожди. Льет и сейчас, косо, с северной стороны. Коровы, повернувшись к дождю задом, бродят носом в траве на единственной шабановской улице. Домой их еще не пускают - рано. Коровы не бунтуют, они рады, что их не кусают полты, как здесь называют то ли оводов, то ли слепней. Иногда мне не по себе от здешней тишины и спокойного равнодушия до всего, что не касается этой деревни, хотя эти унылые, особенно в дожде, и замкнутые в себе избы во многом правы, что именно так, недоверчиво и без восторга, воспринимают далекий и суетливый мир, гудящий в радиоприемниках, когда какие-то неизвестные олухи соблаговолят включить в сети электричество. Никто в Шабанове газет не выписывает. Дядю Харитона за это ругают, а он говорит одно: у людей нет денег. Но это и правда. В колхозе уже два месяца ничего не платят, за сдаваемое ежедневно государству молоко - тоже. <....>
Лето 1963 года.
<...> Помню, как меня агитировали вступить в партию. "Зачем ты тянешь: у тебя не будет хода, у тебя такая работа, ты ставишь крест на своем будущем". Мама даже плакала. На службе косились: он что-то затаил; и говорили: тебе пора вступать. А я - ничего не таил. В одиночку - разве доверишь такое! - я примирял противоречия: политическую апатию и несамостоятельность, косность и пошлость окружающих я соотносил с великими идеалами революции, с выношенным образом коммуниста-революционера, мучился, не находя точек соприкосновения, и снова искал эти проклятые точки и, не найдя их, писал заявление, думая о Революции, о Ленине и его соратниках, о многих миллионах коммунистов на всех широтах, борющихся за истинную свободу и братство людей.
Вскоре меня повысили в должности, а через некоторое время попросили зайти в обком партии, чтобы получить медицинскую карточку на себя и на жену для спецполиклиники. Так здоровье жены и мое стало особо важным для партии. Я повысился в своей ценности: до этого события я мог вскочить в шесть утра и бежать в общую поликлинику, чтобы занять очередь за талончиками к зубному врачу. Теперь я могу не стоять в общей очереди рядом со всякими там пенсионерами, мелкими служащими и простыми работягами. Я повысился в цене, раз я лечусь там, где лечатся все городские начальники. Спецполиклиника - романтика исключительности, привилегированности, избранности.
Когда я уходил в отпуск, мне выдали лечебные - для поправки моего драгоценного здоровья. Я могу быть здоровяком из здоровяков, меня все равно наградят лечебными, потому что я - на руководящей работе: заведую отделом.
Странно, что неделю назад, когда еще не был подписан приказ о моем назначении, мое здоровье никого не волновало.
Мелкие фактики нашего скромного бытия! У меня - мелкого служащего, мелкого - на общем фоне огромной лестницы, уходящей под облака и до последней ступени занятой важными и блистательными лицами, для которых мои лечебные в пятьдесят рублей никогда не могли бы стать событием, как для меня, - вот на таком-то фоне я начинаю чувствовать себя частицей великого живописного полотна, именуемого историей. Просыпается мое разгоряченное первой привилегией воображение. Я неустанно зрю в будущее.
Оно могло бы быть лучезарным: квартира из трех-четырех комнат на троих, служебная машина, казенная дача, бесплатная путевка, зарплата в три раза выше, чем у сотрудников, обязательное место в президиумах. Представляю, как убоги эти мечты, ограниченные провинциальным кругозором. <...>
Высшее проявление демократичности современного руководителя - это путешествие пешком из дома на службу и энергичный мат при общении с рабочим народом. Мат укорачивает расстояние между сердцами, обеспечивает наилучшее взаимопонимание.
1-2.12.63.
Читаю "Дневник писателя" Андре Белого [14] и случайно замечаю, что параллельно с процессом понимания Белого возникает в сознании моем воспоминание о давнем и повторяющемся время от времени сне. Широкая мраморная лестница во дворце, ведущая в верхний этаж - этого верха я не вижу и там не бывал, - а вправо и влево от нее - лабиринт комнат, залов, в которых я раз блуждал, через которые мчался то ли прячась от кого, то ли разыскивая чей-то след и выход.
Странно, когда я стал записывать это невесть откуда взявшееся - совершенно бессознательно - ощущение, я подумал, что оно имеет - по случаю - прямое отношение к прочитанным статьям Белого. И не потому, что мысль его - запутанный лабиринт, - это неправда, и во сне - не лабиринт мне повторялся, скорее что-то, похожее на детскую еще память о таинственных коридорах гриновской "Золотой цепи". Не лабиринт у Белого, а гулкие комнаты - гулкие, как ночные лестничные клетки и как перроны столичных вокзалов, - он ищет в себе человека, свободного от эгоистического индивидуализма, эгоизма социального, но до сих пор никто такого человека еще не вышелушил из нынешней человеческой особи - ни из себя, ни из других.

![Контрабанда из созвездия Эридана[журнальный вариант]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)