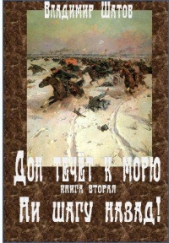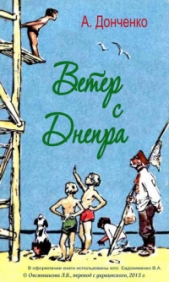От Сталинграда до Днепра

От Сталинграда до Днепра читать книгу онлайн
Если можно сказать «повезло» о человеке, тяжело раненном и комиссованном вчистую, то Мансур Абдулин был на редкость удачлив. Ему повезло, что, попав на фронт осенью кровавого 1942 года, он начал воевать в подразделении батальонных 82-мм минометов, расчет которых располагался в 100 метрах от переднего края. Ему повезло выжить, отвоевав целый год, хотя средняя продолжительность жизни пехотинца составляла от двух недель в наступлении до месяца в обороне. Он участвовал в таких ключевых операциях Красной Армии, как «Уран», «Кольцо», «Румянцев», Курской оборонительной, пройдя путь от минометчика до комсорга батальона и от Сталинграда до Днепра. Ему повезло, что, получив тяжелое ранение, он был быстро эвакуирован с поля боя, а высокопрофессиональные врачи спасли ему ногу. Эта книга — настоящая «окопная правда» Великой Отечественной, потрясающие мемуары фронтовика о людях, деливших с ним радости побед и горечь поражений, об испытаниях, выпавших на их долю, о тяжелом и кровавом солдатском труде.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Старшина ходит между нами, лежащими пластом, и уговаривает получить хлеб, сахар, махорку… Запахло ржаным хлебом и от старшины, и от двуколки… Зашевелились мы. Старшину ругать нет пока сил. Надо сначала ожить. Вот поедим, а потом старшине от нас не будет пощады, сдерем с него шкуру!..
Пришлось по булке на брата. Старшина поторопился объяснить, что хлебом кормил лошадей. Мы не спорили: кони-то вон какие упитанные! Без хлеба разве они выдюжили бы?! Сами бы пали и хлеб наш не довезли. Старшина все же молодец. От своей булки себе ломтик отрезал и нам советует съесть не более ста граммов за первый прием, иначе «живот срежет, сколоти начнутся, не дай бог!».
— Хлопцы, не жадничайте, — скороговоркой наставляет старшина. — Срежет живот!
А лучше сосите помаленьку! Как конфетку! По крошечке пропустите!..
Суворов Павел Георгиевич заметил одобрительно:
— Старшина правильно нам советует, знает свое дело…
В сыром — начало ноября — воздухе разливался терпкий аромат ржаного хлеба. Мы дышали хлебом. Мы впитывали желудками хлеб. Мы оживали… Стали подсмеиваться над собой — что уже почти умирали. Смеялись над старшиной, как он немного трусил, увидев нас, лежащих пластом… Смеялись и над тем, что старшина тоже «поддошел»…
— Не мог глядеть на хлеб, — радостный, что совесть у него чистая, рассказывал старшина. — Я буду сытенький, а рота с голоду заморилась…
Словом, все шло хорошо, и был у нас настоящий праздник!
Но случилось ЧП…
Из моего вещмешка — я потянулся отрезать еще ломтик — исчезла моя буханка! Я глазам не поверил!.. Вся рота взволновалась, загалдела. На шум подошел командир батальона. Тогда комбатом у нас был еще Гридасов Федор Васильевич — маленького роста капитан, бритая голова, лицо красное, как после бани, орден Красного Знамени на груди. Гридасов выбывал по ранению, но потом снова после лечения в госпитале к нам вернулся. Спрашивает, в чем дело. Рассказываем и сами не рады.
— Расстрелять негодяя на месте! — приказывает комбат и сам, расстегнув кобуру, вынимает наган.
Рота, как один, схватилась за мешки. Вот уже содержимое всех вещмешков посыпалось на плащ-палатки. Лишь один туго перевязан, и хозяин не спешит его развязывать; обреченный, все ниже опускает он голову в перекрестье наших взглядов… Вздрогнул от негромкого щелчка, с которым комбат взвел курок.
— Осмотреть! — Комбат кивнул кому-то на мешок.
У меня получилось так быстро, что никто сначала не понял. Я боялся, что и комбат не поймет меня… Почти оттолкнув того, кто по приказу комбата уже склонился над вещмешком, я подскочил к Николаю — так звали вора, — запустил руку в его вещмешок и, нащупав две буханки, замер.
Все молча напряженно ждали.
Я встал, выпрямился по стойке «смирно» и доложил:
— Украденный хлеб не обнаружен!
Мгновенье на лице комбата держалось выражение удивленного недоумения, но тут же его глаза мне сказали: «Молодец!» — и он засунул наган обратно в кобуру.
Ничего не сказав больше, комбат исчез в направлении КП батальона.
Вся рота вздохнула облегченно. Не задавая больше вопросов, где же пропавшая буханка, каждый отрезал от своей по ломтю и положил на мою плащ-палатку. А Николай закрыл лицо ладонями, лег на землю рядом со злополучным мешком и так лежал, наверное, два часа. Человек — приговоренный к позорной смерти и получивший помилование…
И вот этот-то Николай через две или три недели был тяжело ранен осколком в легкие. В его груди была рана, через которую со свистом входил и выходил воздух… Случилось это после Илларионовки — уже вечером. Санитаров в нашем батальоне не было. Раненых после боя выносили сами и доставляли до санроты, которая всегда находилась в тылу полка, но далековато… Нас в роте не более десяти-двенадцати человек. Пополнение не поступало уже два или три дня. И так сложилось, что мне было приказано волочь моего «крестника» в санроту.
Как на грех, мы опять сутки были без пищи — в роте с нетерпением ждали кухню, когда я получил приказ доставить раненого в тыл. Впрягся я в лямку из проволоки, кое-как тащу себя и волокушу в быстро густеющих сумерках и размышляю: «Приехала уже без меня кухня или я успею вернуться…» Раненый без сознания. В том, что он жив, можно удостовериться, лишь остановившись: лыжи под волокушей противно скребут по снегу, перемешанному с землей. В который раз приостанавливаюсь — еще свистит воздух в груди раненого, жив, значит. И снова заставляю себя двигаться, обходить воронки, окопы… Сумерки уже не сумерки — ночь. Как бы не заблудиться. И обидно мне, если раненый умрет, когда я доволоку его до места… Вдруг — или показалось — слышу:
— Мансур…
Остановился, наклоняюсь.
— Мансур, пристрели… А не можешь, брось… Замучил я тебя…
И откуда только в меня влилась сила! Впрягся в лямку и помчался уже без остановок, будто убегал от постыдных своих подленьких мыслей. Ведь краем сознания — надо это признать — я надеялся, что Николай умрет в начале пути и я освобожусь от груза, успею к раздаче горячей пищи.
И зачем так вперемежку доброе и злое в одном человеке — во мне?! Наверное, я был страшен в темноте: зубы оскалены, дыхание хриплое и дико выпученные глаза: живым или мертвым скорей доставить Николая в санроту!.. Сказать, что я второй раз спасал ему жизнь из особой к нему дружбы, я не могу. И в первый сработало скорей суеверие — моя была буханка-то!.. И теперь я торопился ради очистки своей совести, чтобы победить в себе начатки того злого, подлого, которое я так ненавижу и которое во мне тоже заложено!..
Чуть не свалился в глубокую балку, битком набитую тыловыми подразделениями. Из балки подымался сытый и вкусный запах пищи, смешанный с запахами конского навоза, бензина, сена… Кое-где в блиндажах светились маленькие окна.
Сунулся в один блиндаж и сиплым, простуженным голосом прошу принять тяжелораненого.
— Какой полк? — спрашивает мордастый санитар.
— Тысяча тридцать четвертый, — отвечаю я.
— Вези дальше. Тут тысяча двадцать шестой.
Тяжелая дверь закрылась туго. А у меня разом кончились силы тянуть волокушу дальше. Николай стонет и бредит. Тащу, что поделаешь, бюрократ попался. Пулю бы ему в узкий лоб! Но потом не докажешь трибуналу, что ты был прав, и тебе будет такая же пуля.
Еще блиндаж. Стучу в дверь. Блиндажи строили фашисты, и все сделано капитально. Открывается дверь, вместе с облаком вкусного пара выходит санитар. Я ему вопрос:
— Какая санрота?
— Тысяча тридцать шестая, — отвечает.
— Значит, наша! — вру уверенно. — Принимай тяжелораненого!
Сам, не оглядываясь больше, нырнул в блиндаж и сел за стол, как хозяин. Санитарки внесли Николая — уже на носилках он.
— Дайте что-нибудь пожрать, — прошу.
На стол поставили пшеничную кашу, теплую, душистую, жирную… Наелся. Уснул тут же за столом.
Разбудили меня, когда еще было темно: с пониманием, чтоб я мог успеть на передний край затемно. Доел я вкусную кашу. Да еще дали мне с собой полбулки хлеба.
Слышу:
— Мансур, подойди…
Прошел я в дальний угол блиндажа — жив Николай мой!
— Мансур, сроду тебя не забуду… Дай бог тебе вернуться домой…
Я тащил на себе до половины пути вора, помилованного мной, потом, после его просьбы пристрелить, бросить, убегал от собственных подленьких мыслей, а в санроте я простился с настоящим боевым другом, от всего сердца желая ему выжить!..
Кстати о кухне. В нашем стрелковом батальоне служил поваром ефрейтор с потешной фамилией — Цыбуля (по-украински лук), по имени и отчеству — Кузьма Климентьевич. Мы, рядовые пехотинцы, получая очередную порцию каши на полевой кухне, шутили над ним, называя его «ворошиловским стрелком» и «сынком», и надоедали ему по поводу его фамилии, точно подходящей для его должности: «Кузя, признайся! Ты эту фамилию нарочно для себя придумал, чтобы начальство назначило тебя на эту тепленькую и сытую должность?» А он, проворно орудуя своим «полковником» (так мы прозвали половник), скороговоркой отвечает: «Э-э-эх, хлопцы! Если б была бы у мэне друга фамилия, то я б на ету катаржну должность не угодил бы!»