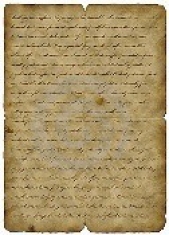Воспоминания об Александре Грине

Воспоминания об Александре Грине читать книгу онлайн
Александр Степанович Грин проработал в русской литературе четверть века. Он оставил после себя ро¬маны, повести, несколько сотен рассказов, стихи, басни, юморески.«Знаю, что мое настоящее будет всегда звучать в сердцах людей», — говорил он.Предвидение Грина сбылось. Он один из самых лю¬бимых писателей нашей молодежи. Праздничные, тре¬вожные, непримиримые к фальши книги его полны огромной и требовательно-строгой любви к людям.Грин — наш современник, друг, наставник, добрый советчик
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
PAGE 28
Иногда я писал стихи и посылал их в «Ниву», «Родину», никогда не получая ответа от редакций, хотя прилагал на ответ марки. Стихи были о безнадежности, беспросветности, разбитых мечтах и одиночестве, - точь-в-точь такие стихи, которыми тогда были полны еженедельники. Со стороны можно было подумать, что пишет сорокалетний чеховский герой, а не мальчик одиннадцати-пятнадцати лет.
Для своего возраста я начал недурно рисовать с семи лет, и мои отметки по рисованию всегда были 4-5. Я хорошо копировал рисунки и сам научился писать акварелью, но это были тоже копии рисунков, а не самостоятельные работы, всего два раза я сделал акварелью цветы. Второй рисунок - водяную лилию - я увез с собой в Одессу, а также взял краски, полагая, что буду рисовать где-нибудь в Индии, на берегах Ганга…
В городском училище я учился посредственно, был на плохом счету, как озорник, хотя и там, кроме возни, драк, непослушания и подсказывания, ничего особенного не творил. Мне хорошо давались лишь словесность, история, закон божий и писание сочинений. Наш класс вел добрей4ший человек, фамилию которого я, к сожалению, забыл 4; впоследствии он стал инспектором Глазовского городского училища.
Только по возрасту и росту я просидел последний год на задней парте, - остальное время, чтобы я всегда был на виду, меня держали на передней парте, прямо перед столом учителя.
Мое развитие было не в пример выше всех учеников училища, а потому, очень часто, на вопрос: «Кто знает?» я, подняв руку, звучал как энциклопедия. Учитель любил меня, но, любя, преследовал строже, чем других, и без стеснения посылал к доске, если замечал, что я хихикаю с кем-нибудь или под партой толкаюсь ногами со своим обидчиком (я никогда не начинал первый).
Одно мое сочинение на тему «Мой любимый уголок» учитель читал вслух всему классу, как образец. Я описал камышовый островок мельничного пруда, где любил сидеть с книгой, ружьем и хлебом. Другой раз была задана тема: «О пользе собак». Я написал «о вреде собак» (хотя думал иначе), доказывая, что случаи водобоязни во всем мире перевешивают пользу собак для эскимосов, охотников и хозяев стад. Учитель начертал
PAGE 29
единицу, приписав: «Написано отлично, но не на тему». Это сочинение тоже было «опубликовано», и я видел, что учитель, втайне, гордится этой моей эскападой.
В пятом отделении, по странной прихоти, я написал, для себя, статью: «Вред Майн Рида и Густава Эмара», в которой развивал мысль о гибельности указанных писателен для подростков. Вывод был такой: начитавшись живописных страниц о далеких, таинственных материках, дети презирают обычную обстановку, тоскуют и стремятся бежать в Америку. Примером я выставил театральный спектакль, после которого еще мрачнее и незавиднее кажется дом, участь бедняка.
Собрав после классов несколько человек слушателей, я прочел им эту галиматью. Они выслушали, возражать не умели или не хотели; тем дело и кончилось. До сих пор не понимаю, зачем я это сделал, - я, даже теперь с волнением думающий о путешествиях.
В четвертом отделении случился выстрел: я имел глупость принести с собою в класс пистолет, собственноручно сделанный из солдатского патрона, заряжаемый порохом, дробью и воспламеняемый бумажным пистоном; я его держал в парте, трогая стальную пластинку с гвоздиком, заменяющую курок, - как вдруг курок сорвался, гром выстрела едва не сбросил учителя со стула; пошел дым столбом - и все повскакали.
За это художество меня со сторожем и запиской об исключении на две недели отправили домой.
Я ревел, просил прощения, отец стегал меня ремнем, ходил к инспектору и с трудом уладил дело, так что через три дня я опять сидел на последней парте.
В шестом отделении произошел случай посерьезнее.
Хороший учитель уехал в Глазов, а его место занял нов ы5 й, ранее не служивший, Алексей Иванович Терпугов 5. Это был крайне желчный, истеричный человек, измученный невралгией и ненавидевший учеников до того, что, забывшись, кричал на них и топал ногами.
Чем- то я провинился во время урока, -кажется, разговаривал.
- Гриневский! - крикнул мне Терпугов. - Помяни мое слово, что не миновать тебе скамьи подсудимых!
Разговаривая с соседом, я в то же время потихоньку ел принесенного с собой на завтрак рябчика. Я встал и запустил рябчиком в Терпугова. Рябчик шлепнулся о вицмундир и упал на пол.
PAGE 30
Терпугов оцепенел. Он так побледнел, что и я испугался. Учитель сдавленным голосом приказал мне выйти вон.
Весь дрожа, со слезами обиды и гнева, я, выйдя, немедленно направился домой и рассказал отцу, что случилось.
Первый раз произошло, что отец меня не бранил (меня, как большого, он теперь не бил). Походив взад-вперед, отец направился к инспектору. Возник было вопрос о моем исключении, но все же инспектор Дерен-ков и другие признали неправоту в этом деле Терпугова.
Дело, после двух недель моего домашнего пребывания, кончилось формальным извинением с моей стороны.
После этого я кончил наконец училище без инцидентов и, получив аттестат (средняя отметка - 3, по поведению - 5, ради того, чтобы не портить мне жизнь), я начал собираться в Одессу.
Теперь я расскажу, с чего это началось.
Отчасти очень дальними родственниками по матери - а больше просто знакомыми - приходились нам Чернышевы. Отец Чернышев был протоиерей кафедрального собора. У него был сын - Сережа, двумя или тремя годами старше меня, тихий, малоспособный мальчик; исключили его за неуспешность, или же сами родители взяли из семинарии - точно не помню. Только в один прекрасный день я узнал, что Сережа отправился в Одессу, поступил в Херсонские мореходные классы и совершил кругосветное путешествие.
Торжествующие родители показывали цветную фотографию. На ней был изображен молодой моряк, одетый в форму матроса; на ленте бескозырной фуражки можно было прочесть: «Императрица Мария». Ленты падали от затылка через плечо на грудь. Полосы клинообразно выступающего из-за голландки с синим воротником тельника долгое время не давали мне покоя; я все решал - есть ли это часть рубашки или же это надеваете особо, как галстук. Довольно сказать, что я никогда не видел такой одежды и положительно влюбился в нее, особенно в ленты, которые, при открытой шее и беско-зырьковой фуражке, придавали открытому, мужественному лицу Сережи особый поэтический оттенок. Но, главное, я увидел возможность практического решения задачи путешествий, причем Чернышев еще получал жалованье!
PAGE 31
Кроме того, аттестата городского училища было достаточно для поступления в Мореходные классы без всякого экзамена.
Отец однажды взял меня с собой к Чернышевым, и мы выпытывали у них все, что они знали о своем сыне. Немного я приуныл (вопрос шел о том, где остановиться в Одессе и много ли надо на поездку денег), когда мать Сережи сказала, что сыну они дали сто пятьдесят рублей, наказав остановиться в хорошей гостинице, и что продолжали посылать ежемесячно по двадцать пять рублей, пока Сережа не начал получать жалованье рулевого матроса - двадцать два рубля с копейками на всем готовом. Теперь он плавал уже в Добровольном флоте на «Саратове», был в Японии, Китае, Сингапуре…
Сингапуре!…
Я сидел подавленный и взволнованный. Ведь я до сих пор только мечтал, тогда как Чернышев с легкостью, как мне казалось, необычайной, без шума и треска, сделался моряком дальнего плавания.
Чернышевы, между прочим, говорили, что Сережа «лазил на мачты». Не зная устройства вант, я был очень встревожен, так как по гимнастическим столбам всползал плохо, а лазанье на мачты представлялось мне именно карабканьем по толстому голому столбу.
Относительно мачт меня через некоторое время просветил другой Чернышев, брат моего одноклассника Чернышева, тоже выставленного из реального училища мальчика (за неуспешность); он одно время учился в Астраханских мореходных классах и плавал на парусных судах; я понял назначение вант, и страх перед мачтами прошел. Но этот Чернышев не был для меня настоящим моряком: он плавал в закрытом море, был неуклюж, неприятно-широкоплеч, черен, болезненно красив и туп; в довершение всего поступил на службу в акциз.