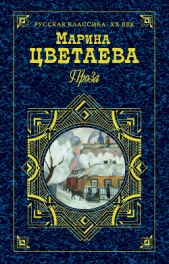Том 4. Книга 2. Дневниковая проза

Том 4. Книга 2. Дневниковая проза читать книгу онлайн
Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) — великая русская поэтесса, творчеству которой присущи интонационно-ритмическая экспрессивность, парадоксальная метафоричность. В Собрание сочинений включены произведения, созданные М. Цветаевой в 1906–1941 гг., а также ее письма разных лет и выполненный ею перевод французского романа Анны де Ноаль «Новое упование».
Во вторую книгу четвертого тома вошла проза М. Цветаевой, ставшая своеобразной «книгой ее бытия»: дневники, записи из рабочих тетрадей, ответы на анкеты и интервью.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Купил с аукциона дом в Климачах за 400 руб<лей>. Грабил банк в Одессе, — «полные карманы золота»! Служил в полку Наследника.
— Выходит он из вагона: худенький, хорошенький, и жалобным таким голоском: «А куда мне сейчас можно будет пойти?» — «Вас автомобиль ждет. Ваше высочество». Многие солдаты плакали.
Говорю ему стихи: «Царю на Пасху», «Кровных коней»…
— Это какой же человек сочинял? Не из простых, чай? А раскат-то какой! Аккурат как громом перекатило· —…Пойла — стойла… А здорово ж ему бы нагорело за стойла за эти! А я полагаю — не в памяти писано, а? Убили отца, убили мать, убили братьев, убили сестер, — вот он и записа-ал! С хорошей жизни так не запишешь! А нельзя ли было бы, барышня, мне этот стих про стойла на память списать?
— Попадетесь.
— Я?!! — Рожа из вдохновенной делается грабительской. Я — да попасться? Нерожён еще прòпад тот, через который я пропасть должен! Нерожён — непроложен! Да у меня, барышня, золотых часов четверо (Руки по карманам!) Хотите — сверяйтесь! И все по разному времени ходят: одни по московскому, другие по питерскому, третьи по рязанскому, а эти вот (ударяя кулаком в грудь) — по разинскому!
— А сказать вам стих про Стеньку Разина? Тот же человек писал. Слушайте.
Говорю, как утопающий, — нет, как рыба, собственным морем захлебнувшаяся (Говорящая рыба… Гм… Впрочем, в сказках бывает).
После тещ, свах, пшен, помойных ведер, наганов, Марксов — этот луч (голос), ударяющий в эту синь (глаза!). Ибо читаю ему прямо в глаза: как смотрят! В васильковую синь: сгинь.
Стенька Разин!
Стенька Разин, я не персияночка, во мне нет двуострого коварства: Персии и нелюбящей. Но я и не русская, Разин, я до-русская, до-татарская, — довременная Русь я — тебе навстречу! Соломенный Степан, слушай меня, степь: были кибитки и были кочевья, были костры и были звезды. Кибиточный шатер — хочешь? где сквозь дыру — самая большая звезда.
Но…
— Только вы уж, барышня, покрупней потрудитесь: я руку-то писаную не больно читаю.
С ребяческой радостью следит за возникновением букв (пишу, конечно, печатными).
— Дэ… мэ… А вот и ять, — аккурат церковка с куполом.
— А вы сам деревенский?
— Сло-бодский!
— А теперь я вам, барышня, за труды за ваши, сказ один расскажу — про город подводный. Я еще махоньким был, годочке по восьмом, — отец сказывал.
Будто есть где-то в нашей русской земле озеро, а на дне озера того — город схоронен: с церквами — с башнями, с базарами — с амбарами (Внезапная усмешка). А каланчи пожарной — не надо: кто затонул — тому не гореть! И затонул будто бы тот град по особому случаю. Нашли на нашу землю татары, стали дань собирать: чиста злата крестами, чиста сéребра колоколами, честной крови-плоти дарами. Град за градом, что колос за колосом, клонятся: ключми позвякивают, татарам поддакивают. А один, вишь, князь — непоклонлив был: «Не выдам я своей святыни — пусть лучше кровь моя хлынет, не выдам я своей. Помоги — отрубите мне руки и ноги! Слышит — уж недалече рать: топота великие». Созывает он всех звонарей городских, велит им изо всей силы-мочи напоследок, в кол’кола взыграть: татарам на омерзение, Господу Богу на прославление. Ну — и постарались тут звонарики! Меня вот только, молодца, не было… Как вдарят! Как грянут! Аж вся грудь земная — дрогом пошла!
И поструились, с того звону, реки чиста-серебра: чем пуще звонари работают, тем круче те реки бегут. А земля того серебра не принимает, не впитывает. Уж по граду ни пройти-ни проехать, одноэтажные домишки с головой под воду ушли, только Князев дворец один держится. А уж тому звону в ответ — другие звоны пошли: рати поганые подступают, кривыми саблями бряцают. Взобрался князь на самую дворцовую вышку — вода по грудь — стоит с непокрытой головой, звон по кудрям серебром текет. Смотрит: под воротами-то тьмы! Да как зыкнет тут не своим голосом:
— Эй вы, звонарики-сударики!
Только чего сказать-то он им хотел — никто не слыхал! И городу того боле — никто не видал!
Ворвались татары в ворота — ровень-гладь. Одни струйки меленькие похлипывают…
Так и затонул тот город в собственном звоне.
Стенька Разин, я не Персияночка, но перстенек на память — серебряный — я Вам подарю.
Глядите: двуглавый орел, вздыбивший крылья, проще: царский гривенник в серебряном ободке. Придется ли по руке? Придется. У меня рука не дамская. Но ты, Стенька, не понимаешь рук: формы, ногтей, «породы». Ты понимаешь ладонь (тепло) и пальцы (хватку). Рукопожатие ты поймешь.
Перстенек бери без думы: было десять — девять осталось! А что в ответ? Никогда ничего в ответ.
С безымянного моего — на мизинный твой.
Но не дам я его тебе, как даю: ты — озорь! Будет с тебя «памяти о царском времени». Шатры и костры — при мне.
— А вот у меня еще с собой книжечка о Москве, возьмите тоже. Вы не смотрите, что маленькая, — в ней весь московский звон!
(«Москва», изд<ание> Универсальной библиотеки. Летописцы, чужестранцы, писатели и поэты о Москве. Книжка, которую дарю уже четвертый раз. — Сокровищница!)
— Ну а как в Москве буду — навестить можно? Я даже имени-отечества вашего не спросил.
Я, мысленно: «Зачем?!» (Вслух): — Дайте книжечку, запишу. [7]
Потом на крыльце провожаю — пока глаз и пока души…
Завтра едем. Едем, если сядем. Грозят заградительными отрядами. Впрочем, Каплан (из уважения к теще) обещает дать знать по путям, что едут свои.
Утреннее посещение N (ночевал в вагоне).
— М<арина> И<вановна>, сматывайтесь — и айда! Что вы здесь с тещей натворили? Этот, в красной черкеске, в бешенстве! Полночи его работал. Наврал, что вы и с Лениным и с Троцким, что вы им всем очки втирали, что вы тайно командированы, черт знает чего наплел! Да иначе не вывез бы! Контрреволюция, орет, юдофобство, в одной люльке с убийцами Урицкого, орет, качалась! Это теща, говорю, качалась (тещу-то Колька вывезет!). Обе, обе, орет, — одного поля ягодки! Ну потом, когда я и про Троцкого и про Ленина, немножечко осел. А Каплан мне — так уж безо всяких: — «Убирайтесь сегодня же, наши посадят. За завтрашний день не ручаюсь». — Такие дела!
А еще знаете, другое удовольствие: ночью проснулся — разговор. Черт этот — еще с каким-то. Крестьяне поезд взорвать хотят, слежка идет… Три деревни точно… Ну и гнездо, Марина Ивановна! Да ведь это ж — Хитровка! Я волосы на себе рву, что вас здесь с ними одну оставил! Вы же ничего не понимаете: они все будут расстреляны!
Я: — Повешены. У меня даже в книжке записано.
Он: — И не повешены, а расстреляны. Советскими же. Тут ревизии ждут. Левит на Каплана донес, а на Левита — Каплан донес. И вот, кто кого. Такая пойдет разборка! Ведь здесь главный ссыпной пункт — понимаете?
— Ни звука. Но ехать, определенно, надо. А тещин сын?
— С нами едет, — мать будто проводить. Не вернется. Ну, М<арина> И<вановна>, за дело: вещи складывать!
…И, ради Бога, ни одного слова лишнего! Мы уж с Колькой тещу за сумасшедшую выдали. Задаром пропадем!
Сматываюсь. Две корзинки: одна кроткая, круглая, другая квадратная, злостная, с железными углами и железкой сверху. В первую — сало, пшено, кукол (янтарь, как надела, так не сняла), в квадратную — полпуда N и свои 10 ф<унтов>. В общем, около 2 п<удов>. Беру на вес — вытяну!
Хозяйка, поняв, что уезжаю, льнет; я, поняв, что уезжаю, наглею.