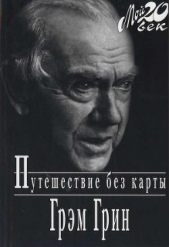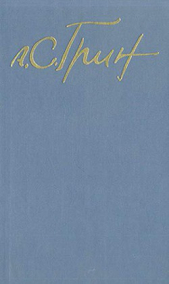Жизнь и творчество Александра Грина

Жизнь и творчество Александра Грина читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Современники по-разному отнеслись к автору, создающему в своих книгах фантастический материк, когда на земле умножалось неблагополучие. Окажем, писателю Сигизмунду Кржижановскому, одному жз ярких талантов той поры, лишь недавно возвращенных нашей словесности, импонирует умение Грина, «взяв быт, оттяпать ему его тупое „т“, смело выделить „бы“ — чистую сослагательность, сочетанность свободных фантазмов». А Анне Ахматовой такие книги были не по душе, она считала их переводом с несуществующего. Что до самого автора, он, может статься, согласился бы с обоими, благо их суждения, при противоположности оценки, совпадают по сути. Кажется, Грину хотелось именно этого. Властью воображения создать тот самый «оскорбленному чувству уголок», которые напрасно было бы искать по свету. Да не уголок, а просторное, вольное царство не от мира сего, и собрать туда, словно в гигантский ковчег, все, без чего душа не хочет обойтись. Живописные ландшафты. Очаровательные города. Первобытную прелесть необитаемых островов. Аромат средневековья и дерзость современной мысли. Море, любовь, приключения… Нет, мало! Еще земные созвездия: пусть «Южный Крест там сияет вдали», не видимый в нашем полушарии, но по одному названию уже милый сердцу. А музыка, живопись, книги — можно без них? Ведь необходимы мелодия Гуно в «Блистающем мире», разговор о Моне Лизе в «Джесси и Моргиане», в «Бегущей по волнам» — упоминание о рисунках Калло, Фрагонара, Бердслея.
И то, что персонажи Грина знают мировую литературу, имеют даже понятие о футуризме (во времена парусного флота!) — это все необходимо. За ними культура, духовный опыт человечества. Без этого летающему человеку Друду из «Блистающего мира» не оторваться от земли, Грэю и Ассоль не узнать друг друга…
Тут поджидал Грина еще один парадокс. Поразительная конкретность его фантазий, их кровная связь с реальностью и культурой стали поводом для превратных толкований. Советская литература вопреки всем партийным призывам и потугам послушных авторов так ведь и не создала мало-мальски соблазнительного образа «коммунистического завтра». Официальная мечта, порождавшая крикливые экстазы толпы и пыл оратороров, для творческого вдохновения оказалась негодной, тут ведь совсем иное вдохновение, его природа неизмеримо тоньше, интимнее, а суть так и не постигнута до конца.
В первые годы советской власти критика укоризненно сетовала на такую бескрылость писательской фантазии. Потом, застеснявшись и что-то сообразив, умолкла. Но недостаток в литературе картин «светлого будущего» ощущался, и в глазах некоторых гриновская страна стала их заменой. Так, В.Мухина-Петринская, автор «Кораблей Санди», «Позывных Зурбагана» и других очень советских и романтичных книжек для школьников, объявляла, что видит себя наследницей Грина, призванной, пока достанет сил, нести его алое знамя.
Допускаю, скрепя сердце, что эти слова искренни. В.Мухина-Петринская рассказывала, что в ее голодном отрочестве был случай, когда она купила «Золотую цепь», истратив последние деньги, на которые можно было поесть. Так любила Грина эта девочка… Но, сделавшись писательницей, она, видно, разучилась его понимать. Должно быть, жажда найти в гриновской мечте средство примирения с современной действительностью была сильнее всего остального. Но сам-то Грин такого примирения не знал. Он никому не завещал алых знамен, Зурбаган не посылал никаких позывных отважным пионерам и покорителям природы, героям В.Мухиной-Петринской и ее литературных соратников.
Проза Грина — гениальное самовыражение одинокой души, так круто не поладившей с веком, как, может быть, никто из современников. Его тяжба с эпохой столь непримирима, что писателю, вспоминавшему, как с детства его пленяли слова «Ориноко», «Миссисипи», «Суматра», оказалось мало этих экзотических, так и не виданных им краев.
Понадобились Зурбаган, Гель-Гью, Гертон. Иное пространство и время. Туда (Суматра слишком близко) он уходил от всего, что окружало, обступало, душило. Грин не идеализировал прошлого, и перед Западом не преклонялся, хотя такие обвинения были и Запад его действительно интересовал. Но для подобных иллюзий прославленный мечтатель был слишком трезв, более того — провидчески зорок. Вся его очарованность поэзией и красотой мира не может ни скрыть, ни хотя бы смягчить горечи, с какой он смотрел на общество, вступающее в двадцатый век. Его книги пронизаны «энергией исторического отчаяния», как сказал бы сегодня Фазиль Искандер (ЛГ.20.1. 1993, с. 5).
это пророчество, на котором (прислушайтесь!) даже у блоковского стиха перехватывает дыхание, внимательный читатель без труда вычитывает из динамичной, красочной прозы Грина. Писатель рано понял, что такое тоталитаризм. Чтобы в этом убедиться, достаточно прочесть его первые, еще без сказочного налета, рассказы о маленьких людях, об армии и войне, об эсерах-подпольщиках. Это не лучшее из созданного им, творческий почерк еще не установился, но умение смотреть вглубь уже примечательно.
Вслед за Гоголем, разглядевшим мечущийся в петербургской вьюге мстительный призрак человека, которого заставили быть маленьким, Грин видит страшное в человеке улицы. Голодный, как, к примеру, в рассказе «Малинник Якобсона», или тупо, до отрыжки сытый, как в «Лебеде», он одинаково опасен, потому что обездолен духовно. Под его неказистым обликом затаился бес-разрушитель, он зол сладострастно, его изувеченной душе от красоты и добра не нужно уже ничего, кроме их унижения и гибели.
С революционерами все иначе, но тоже страшно. Самые благие намерения не спасают людей, подчинивших совесть партийной дисциплине, заменивших сложную жизнь духа простой устремленностью к общей цели. Их существование становится иллюзорным, братство при малейшем разногласии взрывается ненавистью, товарищество чревато взаимной слежкой. Молодые идеалисты, чистые и отважные, превращаются в шайку истеричных убийц, и такая метаморфоза воспринимается как следствие неумолимого природного закона.
Что до военных рассказов Грина, таких как «Желтый город», «Баталист Шуан», «Тайна лунной ночи», они способны удивить и нынешнего читателя, а для своего времени, если вдуматься, невероятны. Краткие, написанные суховато, особенно на фоне обычно такой богатой гриновской образности, они примечательны не столько тем, что повествуют о случаях странных и жутких, сколько свойственным автору восприятием войны.
Грину безразличен старинный спор, не утихнувший и поныне, считать ли войну героическим взлетом патриотизма или тяжкой, черной работой людей долга, для которых кровь и смерть поневоле становятся будничными. В его прозе война не то и не другое, она — безумие. Ощущение чудовищного, апокалиптического бреда только усугубяется репортажной деловитостью тона рассказав, точностью дат и географических названий. «Был вечер двадцать пятого марта 1919 года, — так начинается „Желтый город“. — В маленьком бельгийском городке, называвшемся Сен-Жан…» Рассказ о человеке, попавшем в город, где среди руин остались только трупы и сумасшедшие, занимает всего полторы страницы. Но их оказывается довольно, чтобы заставить читателя поверить в такой финал: «На короткое, но роковое мгновение жизнь показалась ему страшным сном, который необходимо оборвать. Он поднес револьвер к виску и спустил курок».
Впрочем, когда действие прозы Грина происходит в мире реальном, здесь, а не там, этот мир зачастую выглядит катастрофичным и без войны, Так, рассказ «Земля ж вода», впервые изданный журналом «Аргус» в феврале 1914 года, следовательно, написанный до начала Первой мировой, повествует о гибели Петербурга, сметенного с лица Земли чудовищным землетрясением. Читателям «Аргуса» это казалось, должно быть, болезненной, хотя не лишенной красоты причудою воображения. Но когда знаешь, что в скором времени ожидало Петербург и всю страну, в этой мрачной фантазии чудится нечто иное.
И все же грозные картины катастрофы в «Земле и воде» пугают меньше, чем списанный с натуры послереволюционный Петроград «Крысолова» и «Фанданго».