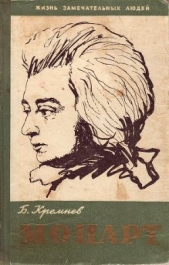Дунаевский — красный Моцарт

Дунаевский — красный Моцарт читать книгу онлайн
Имя Исаака Дунаевского (1900—1955) золотыми буквами вписано в историю российской популярной музыки. Его песни и мелодии у одних рождают ностальгию по славному прошлому, у других — неприязнь к советской идеологии, которую с энтузиазмом воспевал композитор. Ясность в эти споры вносит книга известного журналиста и драматурга Дмитрия Минченка, написанная на основе архивных документов, воспоминаний и писем самого Дунаевского и его родных. Первый вариант биографии, вышедший в 1998 году, получил премию Фонда Ирины Архиповой как лучшая книга десятилетия о музыке и музыкантах. Новое издание дополнено материалами, обнаруженными в последние годы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Какая разница между Горским и чахоточным Полянским? Как между солнцем и свечкой. Ему не было прощения, его стоило сжечь на медленном огне. В отличие от нервного, порывистого Полянского, Горский был сухой, замкнутый и скучный человек. Его интересовали только гаммы. Он никогда не просил Исаака сделать то, что его волнует. Не знал, чем интересуется его ученик, а его самого интересовала только беглость пальцев Исаака. Было от чего сойти с ума или впасть в отчаяние.
Первое время Исаака отвлекали ученики в гимназии, знакомство с новыми порядками. Приняли его хорошо и дали имя Дуня (производное от домашнего имени Шуня), которое он потом сохранил на всю жизнь. Его старшего брата окрестили Муней. В остальном всё было нормально. Дуня ходил среди учеников с серьёзным видом, объяснял им их ошибки, рассказывал на переменах какие-то важные вещи. Он казался самым взрослым, может быть, за это его не очень любили. Дуня был лишён обычной детской подвижности и весёлости. Нет, он умел смеяться, только этот смех казался взрослым. Зато, когда Исаак действительно превратится в мужчину, он будет вести себя беззаботно, как в детстве. Исаак регулярно писал письма дяде Самуилу и в каждом из них жаловался на Горского, ругая его на чём свет стоит. И однажды это помогло. В одно прекрасное утро Исааку сообщили, что Горский покидает училище и едет лечиться куда-то в горы. Может быть, у него тоже обнаружили чахотку? Это было уже неважно. Самое главное, что его больше не будет в училище.
На смену Горскому приехал другой педагог — профессор Иосиф Юльевич Ахрон. Он был учеником знаменитого Ауэра, как и Горский, но оказался его полной противоположностью и внешне, и внутренне. Стёкла его пенсне всегда сверкали, как будто он смазывал их какой-то особой жидкостью — у Горского они были непроницаемыми и тусклыми, словно запорошенные пылью. Слушать игру Ахрона было сплошным наслаждением, а игру Горского — академической повинностью.
Когда Ахрон играл, у него расстёгивалась пуговица на жилетке и оттуда трогательно выглядывал кусочек девственно-белого живота. А его нотации были образцом чистейшего еврейского юмора. "Что вы стоите, Дунаевский, — кричал во всё горло Ахрон, — вы ждёте, что жареный рябчик будет сам падать в рот, ошибаетесь! Никогда не дождётесь!" Ахрон воздевал к небу руки и брал скрипку, показывая ученику, как жареные рябчики не будут падать в рот и как надо делать пассаж.
Нечего скрывать, у Исаака были свои трудности. Это потом станут говорить, что он играл на скрипке, как Паганини. Исаак в самом деле играл очень хорошо. Особенно ему удавалось вибрато. Его любимой струной была струна "соль", а вот струна "ми" вызывала затруднение. Тяжелее всего Исааку давались флажолеты, и играл он в целом скованно. Боялся излишней театральности, которая преследует всякого скрипача со времён Паганини. Единственное, что он любил — это страстное звучание. Патетику он всегда обожал. Пафос станет фундаментом для его маршей, под которые полуобнажённые красавицы и красавцы будут чеканить шаг на физкультурных парадах на Красной площади.
В один из приездов к сыну Цали Симоновича вызвал к себе Ахрон и с негодованием указал на ученическую скрипочку Исаака:
— Что это, милостивый государь! На этом не играют. У вашего сына талант. Вы должны купить ему настоящий концертный инструмент.
Замечание Ахрона подействовало. Отец сделал своему любимцу роскошный подарок. Он купил, по случаю, как вспоминал старший брат, "настоящего Амати". Но по случаю Амати не покупают — он сам выбирает своих хозяев. Что с этим чудом стало потом, неизвестно. Вполне возможно, что афишировать финансовые возможности отца Дунаевского после революции было небезопасно, и именно в силу этих причин Цали Симонович начал именоваться бедным или, в лучшем случае, небогатым служащим, что, мягко говоря, не соответствовало действительности. Потому что Амати, "настоящий Амати", никогда не стоил дёшево.
В пафосных легендах о гениальности вундеркинда Исаака Дунаевского много места занимает рассказ его брата о первых творческих шагах. Сколько таких творческих шагов мы знаем! С пятнадцати лет он начинает сочинять очень плодотворно. Только за полгода у него набирается до полусотни законченных произведений. Исаак пишет и пишет. Может, в музыкальном плане это так же интересно, как юношеские прыщи, но необходимо для будущего исследователя творчества композитора. Если учесть напряжённую учёбу в гимназии и в музыкальном училище, то продуктивность, с которой лохвицкий паренёк сочинял музыку, покажется чудесной. Мелодии вырывались из него, как пружины из продавленного матраца. Это стало первым кирпичиком для строительства легенды о советском Моцарте.
В рассказе о гениальной одарённости своего брата Дуни и о количестве музыки, сочинённой им, Борис выдаёт нам другую тайну, именно тайну — дату первой влюблённости Исаака. Синагога осталась в стороне. Исаак позабыл слова молитв, которым обучали его. Луч солнца пробивается сквозь зелёную листву. Долой учебники! В сердце расцветает весна. Первая любовь — это не первый шторм, не первое извержение вулкана, не первый девятый вал — это всё вместе. Первая детская любовь в тринадцать лет. И первая юношеская — в шестнадцать. По свидетельству Муни, "девятый вал" не встретил взаимности. Эта милая героиня первой сердечной баталии осталась неизвестной. Можно только предположить, почему она отвергла его любовь — предположение столь же расхожее, как и сам случай. Возможно, у девочки был другой ухажёр, более высокий и красивый. Сам Исаак не был ни высоким, ни особенно здоровым.
Большинство пьес того периода — с 1915 по 1919 год — написано Исааком в минорных тональностях. Помимо музыкальной оценки напрашивается другая, психологическая: эта тональность — признак юношеской депрессии, свойственной всем одарённым детям. Иногда эти депрессии заканчиваются самоубийством. Борис приводит названия, которые давал своим музыкальным опусам того времени его младший брат: "Одиночество", "Тоска", "В моменты грусти", "Слёзы". Названия говорят сами за себя. И тут начинается маленькая тайна. Всё опусы посвящены некой даме, адресованы конкретно, но без указания имени… Только с эпитетами: "Ей одной-единственной".
Это теперь мы понимаем, что свидетельство о первой любви — информация чрезвычайно интересная, позволяющая по-новому взглянуть на композитора, понять его формирование. Как раз в связи с обострённостью этой темы в творчестве композитора, с её очень сильным воздействием на его личность можно говорить, сколь важны сведения о первой любви Дунаевского. Ведь вся его дальнейшая жизнь, по его же признанию, развивалась только под знаком любви. Любовь была для него всем.
Первая любовь отбрасывает тень на все последующие любови и влюблённости, на все сильные чувства, программируя их по своему образу и подобию. Кто знает, может, если бы он первый раз так не любил, то не написал бы потом свои песни и не стал бы столь знаменитым донжуаном советской эпохи. Тогда стоит подумать о том, кто же был его первой любовью. Возможно, сёстры Дерковские — это было бы естественно, но сам композитор подсказывает другую мысль. В так и не отправленном письме знаменитой советской переводчице, поэтессе, прекрасной женщине, в своё время покорившей воображение немалого числа мужчин — Татьяне Щепкиной-Куперник, — Дунаевский пишет о некой Евгении Константиновне Леонтович, харьковской театральной звезде. В сорок восемь лет, когда писалось письмо, он мог сказать: "Я был чуть-чуть неравнодушен к этой милой, очаровательной в жизни женщине и посвятил ей в день бенефиса своё произведение. Потом я познакомился с ней и часто бывал у неё".
Именно в 1916 году, когда возникает пессимистический цикл, он близко знакомится с актрисой, выступая с ней на различных вечерах в пользу раненых. Она читала стихотворение "Брюссельские кружевницы", переведённое той же Татьяной Щепкиной-Куперник. Исаак написал для него музыку. Он был гимназистом, выступать публично ему не полагалось. И Дуня придумал маскарад — почти травестийный — и ужасно неловко себя при этом чувствовал. Шестнадцатилетний юноша надел на себя костюм взрослого мужчины и остался неузнанным. Сам он описывает, что был "в чужом штатском платье, с напяленной поверх нижнего белья манишкой, завязанной сзади шпагатом". Это ударение на фразе "нижнее бельё" сразу заставляет представить что-то очень неуклюжее, а также массу условностей, на которые наталкивались рано взрослеющие школьники.