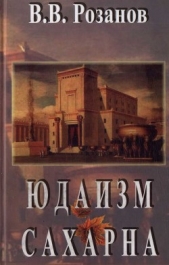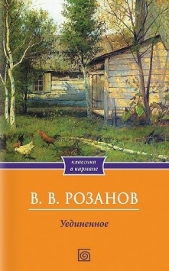Розанов

Розанов читать книгу онлайн
Книга А. Н. Николюкина — известного исследователя жизни и творчества замечательного русского писателя и философа Василия Васильевича Розанова — основана на документальных и архивных материалах и впервые целостно представляет историю становления Розанова как художника и мыслителя.
В ней дана литературная характеристика всех значительных произведений писателя, отличавшегося нетрадиционным образом мышления. Перед читателем предстает вся панорама его творческого наследия. Многие важнейшие книги Розанова, созданные в 1913–1918 годах, впервые исследуются по рукописям и публикациям в 12-томном собрании сочинений В. Розанова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В поисках причины «антишекспиризма» Толстого Розанов обращает внимание на то, что Толстой никогда не переживал трагедии Шекспира своим личным чувством, как, например, Достоевский. Слабость толстовской критики Шекспира проистекает из того, — что он смотрел на его пьесы не как на факт жизни — «вот у меня», «вот у него», а только как на какие-то книги «из аглицкой литературы XVI века». Для молодого Достоевского же мысли Гамлета отвечали его собственным чувствам.
И здесь Розанов усматривает главное различие двух писателей в их отношении к искусству и науке. Толстой бранил науку за то, что она слишком «хитра», а Достоевский смеялся над тем, что она слишком уж «не хитра». Достоевский бранил позитивистскую науку 1870-х годов с ее надменной верой, что она скоро все объяснит, что вне этой науки путей нет. «Против этой коротенькой и самомненной науки Достоевский и спорил, — пишет Розанов. — И не прошло четверти века, как наука сама слишком оправдала предвидения Достоевского, вечный зов его к сложному, глубокому, к трудному и неисследимому».
В единоборстве Толстого с искусством Розанов прозорливо усматривает урок для потомства, «дабы и через 40–50 лет, если кто-нибудь, подняв очи к небу, начнет вздыхать, что „Шекспир дурно относился к рабочему классу“, нашлись бы люди, имеющие мужество возразить». Однако когда в весьма точно указанный в 1908 году Розановым срок нечто подобное у нас произошло (унижение писателей прошлого и настоящего), то не оказалось уже никого, кто посмел бы возвысить свой голос против «постановлений» в области литературы и искусства.
Заслуга Розанова-критика состоит отнюдь не в оспаривании толстовского отрицания искусства (этим с разной степенью успеха занимались многие и во времена Розанова и позднее), а в том, что он увидел дотоле неприметный, хотя, казалось бы, очевидный факт: простоте и «натуральности» в искусстве учил еще Белинский и за ним все — западники и славянофилы, от Хомякова до Писарева. Толстой «положил только последний камень на это здание родной русской эстетики», доведя мысль о простоте до крайности, как это умел делать лишь он один.
В сопоставлении Толстого и Достоевского, их суждений об искусстве проявилась определенная сословная близость Розанова и Достоевского и, напротив, сословная неприязнь к графу Толстому (этот момент сословности в высказываниях о разных писателях нередко дает себя знать у Розанова). «В суждениях об искусстве и науке Толстого сказалась чрезмерная его насыщенность, сытость всяческим преизбыточеством, духовным более всего, но часто и материальным… Мы не можем указать в нашей литературе и даже в нашей истории ни одного человека, который до такой же полноты был бы одарен или обладал бы всем. Иногда, смеясь, хочется сказать, что „Бог нарочно выдумал Толстого, чтобы показать людям пример всяческого счастья“».
Особенно эта «сословность» Розанова ощущается в том, как он говорит о поэтическом воспроизведении Толстым «сыто-помещичьего быта»: «Это — здорово, красиво, вкусно, не деморализует. Но… все коровы и коровы, сенокос да сенокос. Это немножко бедно, бедно именно для половины XIX века, когда человечество жило уже все израненное».
Розанов вспоминает, как студентом смотрел в московском Малом театре «Зимнюю сказку» Шекспира и в одном трогательном месте не мог удержать слез. «Вот этих слез, я думаю, никогда не испытал Толстой. Его суждения о науке, об искусстве — существенно сытые и потому недалекие суждения. Достоевский же смотрел на искусство как на „божество“, именно из страдальческой бедности, одиночества своего, болезни своей». Такое сказать о Толстом мог бы, наверное, «человек из подполья» Достоевского, да и то если его уж очень раздразнить «сытым Левиным» с его «сенокосом».
Розанов с горной страной, с прекрасной Швейцарией, где все — гористо, везде — великолепно. У Достоевского после «скверности, дряни, из души воротит» наступают неожиданно такие «пики» заоблачности, мечты, воображения, какие «даже не брезжились Толстому». Таковы у Достоевского «Сон смешного человека» и некоторые главы «Братьев Карамазовых». «Чтобы так алкать, — продолжает Розанов, — надо быть очень голодну и духовно, и физически, и всячески: бедствие и счастие, которого не испытал Толстой». Достоевский, говорит Розанов, — это какое-то полумифическое Килиманджаро под экваториальным солнцем Африки, горящее вечными снегами.
И вот Лев Толстой уходит из Ясной Поляны. Весть об этом, облетевшая всю Россию, взволновала и Розанова. Он вспоминает, как, уезжая от Толстого и садясь в сани, сказал Варваре Дмитриевне, с которой ездил в Ясную Поляну: «Что же, — Льву Николаевичу нужно взять за спину мешок с необходимыми вещами и уйти отсюда… Уйти куда-нибудь, все равно. Или еще: построили бы ему избушку-келью где-ни-будь неподалеку от Ясной Поляны; и в то время как графская семья жила бы в прежнем доме, он жил бы в этой избушке, сам странник и принимая к себе странников, общаясь с ними, с мужиками, с попами, с „захудалыми людьми“ всех положений и сословий. Это была бы гармония и смысл. Была бы радость. Радость на два дома, естественно разделившихся. Но теперь два противоположные мира идей, понятий и стремлений зажаты в одном месте: ни — ему дышать, ни — им дышать. Бессмысленно, тяжело, невероятно, чтобы это не кончилось» [382] .
Уход Толстого был воспринят Розановым как то, чему следовало бы случиться уже лет двадцать назад, после написания «Исповеди» и «Крейцеровой сонаты», ибо Толстой давно стал странником, отшельником, наподобие пустынников первых времен христианства.
Как ни «готовился» Розанов к смерти Толстого и как ни «готовил» к ней на протяжении многих лет читателей, кончина великого писателя потрясла своим трагизмом и «жестокостью» всех. На другой день после получения скорбного известия со станции Астапово в «Новом времени» появилась статья Розанова, начинающаяся словами: «Умер Толстой — человек, с которым был связан бесконечно разнообразный интерес, бесконечно разнообразное значение… Будут со временем написаны томы об этом значении. В эту первую минуту потрясающего известия хочется сказать, что Россия утратила в нем высочайшую моральную ценность, которою гордилась перед миром, и целый мир сознавал, что у него нет равной духовной драгоценности» [383] . Каждый русский человек, пишет Розанов, со смертью Толстого потерял что-то личное в своей душе, что волновало муками колебаний и сомнений.
Говоря о значении Толстого для русской и мировой культуры, Розанов не измеряет его каким-то «шагом вперед», но сравнивает с «огромным метеором», к которому точно прилипли светоносные частицы русской души и русской жизни: и вокруг него, за ним, позади него — ничего не видно в теперешней литературе, кроме черной и безнадежной пустоты. Страшно остаться с этою пустотою, особенно страшно после него, его великой образцовости. «Метеор», конечно, не поддается измерению шагом или аршином («аршином общим не измерить»). «Особенная стать» Толстого проявилась во всем, вплоть до смерти без примирения с церковью.
В смерти Толстого Розанов видит и нечто прекрасное, исключительное по благородству. «Кто еще так странно, дико и великолепно умирал? Смерть его поразительна, как была и вся его жизнь. Так умереть, взволновав весь мир поступком изумительным, — этого никто не смог и этого ни с кем не случалось…»
Говоря о «поступке изумительном», Розанов имеет в виду не только уход Толстого, но и его отказ от возвращения в лоно церкви. В том же номере газеты, где появилась эта статья, напечатано сообщение о мерах, принятых Синодом 7 ноября в связи с кончиной Толстого. Совещание в покоях митрополита Антония, в котором приняли участие все три митрополита, обер-прокурор Синода Лукьянов и управляющий синодальною канцеляриею С. П. Григоровский, «не нашло возможным снять отлучение, наложенное на покойного 22 февраля 1901 года. Этим постановлением Л. Н. Толстой лишается церковного погребения и возношения за него молитв в храмах… Канцелярия митрополита уведомила через петербургскую духовную консисторию всех благочинных о воспрещении духовенству отправлять панихиду и другие заупокойные богослужения о почившем Л. Н. Толстом. Такое же распоряжение отдано и провинциальным архиереям».