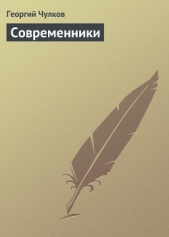Современники. Портреты и этюды

Современники. Портреты и этюды читать книгу онлайн
Мемуарно-художсственная книга известного советского писателя и литературоведа К. И. Чуковского представляет собой серию очерков-портретов деятелей русской культуры XIX–XX вв.: А. П. Чехова, В. Г. Короленко, А. И. Куприна, А. М. Горького, Л. И. Андреева, В. В. Маяковского, А. А. Блока, А. С. Макаренко, И. Е. Репина, Л. В. Собинова и других.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Словом, со многими стихотворениями Блока у меня, как у старика петербуржца, связано столько конкретных, жанровых, бытовых, реалистических образов, что эти стихотворения, представляющиеся многим такими туманно-загадочными, кажутся мне зачастую столь же точным воспроизведением действительности, как, например, стихотворения Некрасова.
В ту пору далекой юности поэзия Блока действовала на нас, как луна на лунатиков. Сладкозвучие его лирики часто бывало чрезмерно, и нам в ту пору казалось, что он не властен в своем даровании и слишком безвольно предается инерции звуков, которая сильнее его самого. В безвольном непротивлении звукам, в женственной покорности им и заключалось тогда очарование Блока для нас. Он был тогда не столько владеющий, сколько владеемый звуками, не жрец своего искусства, но жертва. В ту далекую раннюю пору, о которой я сейчас говорю, деспотическое засилие музыки в его стихах дошло до необычайных размеров. Казалось, стих сам собою течет, как бы независимо от воли поэта, по многократно повторяющимся звукам:
Каждое его стихотворение было полно многократными эхами, перекличками внутренних звуков, внутренних рифм, полурифм, рифмоидов. Каждый звук будил в его уме множество родственных отзвуков, которые словно жаждали возможно дольше остаться в стихе, то замирая, то возникая опять. Это опьянение звуками было главное условие его творчества. Даже в третьем его томе, когда его творчество стало строже и сдержаннее, он часто предавался этой инерции:
В этой непрерывной, слишком сладкозвучной мелодике было что-то расслабляющее мускулы:
И кто из нас не помнит того волнующего, переменяющего всю кровь впечатления, когда после сплошного а в незабвенной строке:
вдруг это а переходило в е:
И его манера читать свои стихи вслух еще сильнее в ту пору подчеркивала эту безвольную покорность своему вдохновению:
Эти опущенные безвольные руки, этот монотонный, певучий, трагический голос поэта, который как бы не виноват в своем творчестве и чувствует себя жертвой своей собственной лирики, таков был Александр Блок больше полувека назад, когда я впервые познакомился с ним.
Потом наступила осенняя ясность тридцатилетнего, тридцатипятилетнего возраста. К тому времени Блок овладел всеми тайнами своего мастерства. Прежнее женственно-пассивное непротивление звукам сменилось мужественной твердостью мастера. Сравните, например, строгую композицию «Двенадцати» с бесформенной и рыхлой «Снежной маской». Почти прекратилось засилие гласных, слишком увлажняющих стих. В стихе появились суровые и трезвые звуки. Та влага, которая так вольно текла во втором его томе, теперь введена в берега и почти вполне подчинилась поэту. Но его тяжкая грусть стала еще более тяжкой и словно навсегда налегла на него. Губы побледнели и сжались. Глаза сделались сумрачны, суровы и требовательны. Лицо стало казаться еще более неподвижным, застыло.
Все эти годы мы встречались с ним часто — у Ремизова, у Мережковских, у Комиссаржевской, у Федора Сологуба, у того же Руманова, и в разных петербургских редакциях, и на выставках картин, и на театральных премьерах, но ни о какой близости между нами не могло быть и речи. Я был газетный писатель, литературный поденщик, плебей, и он явно меня не любил. Письма его ко мне, относящиеся к тому времени, — деловые и сдержанные, без всякой задушевной тональности. [94]
Но вот как-то раз, уже во время войны, мы вышли от общих знакомых; оказалось, что нам по пути, мы пошли зимней ночью по спящему городу и почему-то заговорили о старых журналах, и я сказал, какую огромную роль сыграла в моем детском воспитании «Нива» — еженедельный журнал с иллюстрациями, и что в этом журнале, я помню, было изумительное стихотворение Полонского, которое кончалось такими, вроде как бы неумелыми стихами:
Такая «неудавшаяся» рифма для моего детского слуха еще более усиливала впечатление подлинности этих стихов. Блок был удивлен и обрадован. Оказалось, что и он помнит эти самые строки (ибо в детстве и он тоже был читателем «Нивы») и что нам обоим необходимо немедленно вспомнить остальные стихи, которые казались нам в ту пору такими прекрасными, каким может казаться лишь то, что было читано в детстве. Он как будто впервые увидел меня, как будто только что со мною познакомился и долго стоял со мною невдалеке от аптеки, о которой я сейчас вспоминал, а потом позвал меня к себе и уже на пороге многозначительно сказал обо мне своей матери, Александре Андреевне:
— Представь себе, любит Полонского!
И видно было, что любовь к Полонскому является для него как бы мерилом людей. Полонский, наравне с Владимиром Соловьевым и Фетом, сыграл в свое время немалую роль в формировании его творческой личности, и Александр Александрович всегда относился к нему с благодарным и почтительным чувством. Он достал из своего монументального книжного шкафа все пять томиков Полонского в издании Маркса, но мы так и не нашли этих строк. Его кабинет, который я видел еще на Лахтинской улице, всегда был для меня неожиданностью: то был кабинет ученого. В кабинете преобладали иностранные и старинные книги; старые журналы, выходившие лет двадцать назад, казались у него на полках новехонькими. Теперь мне бросились в глаза Шахматов, Веселовский, Потебня, и я впервые вспомнил, что Блок по своему образованию филолог, что и дед и отец его были профессоры и что отец его жены — Менделеев.
На столе у Блока был такой необыкновенный порядок, что какая-нибудь замусоленная, клочковатая рукопись (была бы здесь совершенно немыслимой. Позднее я заметил, что все вещи его обихода никогда не располагались вокруг него беспорядочным ворохом, а, казалось, сами собою выстраивались по геометрически правильным линиям.
Вообще комната на первых порах поразила меня кричащим несходством с ее обитателем. В комнате был уют и покой устойчивой, размеренной, надолго загаданной жизни, а он, проживающий в ней, казался воплощением бездомности, неуюта, катастрофы и гибели.