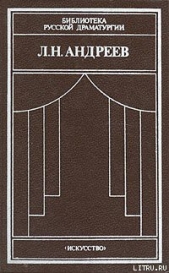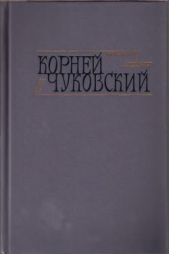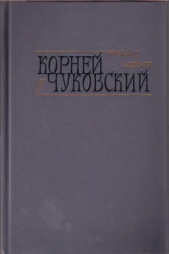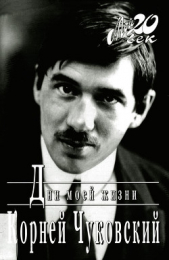Корней Чуковский

Корней Чуковский читать книгу онлайн
Корней Иванович Чуковский (1882–1969) – не только автор всем известных детских стихов и сказок, но и выдающийся литературовед, критик, переводчик, активный участник и организатор литературной жизни России на протяжении семи десятилетий. Несмотря на обилие посвященных ему книг и публикаций, его многогранная натура во многом остается загадкой для исследователей. Писатель и журналист Ирина Лукьянова на основе множества источников создала новую, непревзойденную по полноте биографию писателя, вписав его жизнь в широкую панораму российской истории и литературы XX века. В изложении автора Чуковский предстает не только деятелем ушедшей эпохи, но и нашим собеседником, отвечающим на актуальные вопросы современности.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Осенью 1913 года кубофутуристы под предводительством Бурлюков взялись эпатировать Москву чтением стихов, заумью, докладами и нарядами. В Петербурге эгофутуристы, короновавшие Северянина, давали поэзоконцерты. Будетляне предоставляли прессе множество новостных поводов, и газеты, захлебываясь слюной, восторженно измывались над их кофтами и «сухими черными кошками», над туалетной бумагой афиш, над парфюмерией Северянина и навозом Крученых… Бенедикт Лившиц замечал: «Мы стали хлебом насущным для окололитературного сброда, паразитировавшего на нашем движении, промышлявшего ходким товаром наших имен».
Как только лицо русского футуризма определилось, Чуковский стал писать о нем обзоры и читать лекции. «Октябрь и ноябрь тринадцатого года отмечены в будетлянском календаре целой серией выступлений, среди которых не последнее место занимали лекции Корнея Чуковского о футуризме, прочитанные им в Петербурге и в Москве. Это была вода на нашу мельницу. Приличия ради мы валили Чуковского в общую кучу бесновавшихся вокруг нас Измайловых, Львовых-Рогачевских, Неведомских, Осоргиных, Накатовых, Адамовых, Философовых, Берендеевых и пр., пригвождали к позорному столбу, обзывали и паяцем, и копрофагом, и еще Бог весть как, но все это было не очень серьезно, не более серьезно, чем его собственное отношение к футуризму», – констатировал Лившиц. Впрочем, Вадим Шершеневич, один из самых одиозных и бездарных представителей направления, вовсе не «приличия ради», а с нескрываемым раздражением (и совершенно в духе обыкновеннейшей бессильно-язвительной петербургской критики) обличал Корнея Ивановича:
«Ах, как все пышно у Чуковского! Ах, как все убийственно-остроумно! Не критик, а какой-то беспроигрышный пулемет! („Беспроигрышный пулемет“ – это сильно сказано; поразительная лексическая неопрятность. – И. Л.)Кто появится в литературе – бац камнем и наповал. Это все равно, что прежде попал в Вербицкую, а потом с той же грацией швыряет в футуристов! Ему самое важное разбить скрижаль. Если кто-нибудь спросил Чуковского:
– Как вы проводите день?
Он ответил: Завтракаю, обедаю, а от трех до пяти разбиваю скрижали».
Шершеневич предъявляет Чуковскому уже набившие оскомину обвинения: ничего не понимает, а хочет только ниспровергать авторитеты, завоевывая дешевую славу и зарабатывая на этом деньги. Обвинения в «футуроедстве» – критиков вообще и Чуковского в частности – стали общим местом публичных дискуссий о футуризме и печатных выступлений будетлян. Критики не оставались в долгу, отвечая футуристам, что делают им рекламу.
Впрочем, самые даровитые и проницательные из этих возмутителей спокойствия относились к Чуковскому все-таки не так однозначно. Об этом свидетельствует и его недолгая дружба с Маяковским, и теплые воспоминания о Василии Каменском, и цитированный уже «Полутораглазый стрелец» Лившица, который, впрочем, можно процитировать и еще: «Чуковский разбирался в футуризме лишь немного лучше других наших критиков, подходил даже к тому, что в его глазах имело цену, довольно поверхностно и легкомысленно, но все же он был и добросовестней, и несравненно талантливей своих товарищей по профессии, а главное – по-своему как-то любил и Маяковского, и Хлебникова, и Северянина. Любовь – первая ступень к пониманию, и за эту любовь мы прощали Чуковскому все его промахи. В наших нескончаемых перебранках было больше веселья, чем злобы. Однажды сцепившись с ним, мы, казалось, уже не могли расцепиться и собачьей свадьбой носились с эстрады на эстраду, из одной аудитории в другую, из Тенишевки в Соляной Городок, из Соляного Городка в Психоневрологический институт, из Петербурга в Москву, из Москвы в Петербург и даже наезжали доругиваться в Куоккалу, где он жил отшельником круглый год».
О том же говорил и Чуковский: «Хотя футуристы официально враждовали со мной на эстрадах и в своих выступлениях, хотя во многих своих манифестах они едко ругали меня, валя меня в общую кучу своих оголтелых противников, но в жизни, в быту, так сказать, за кулисами, у нас были отношения добрые; „будетляне“ охотно навещали меня в моем уединении в Куоккале, читали мне свои опусы в рукописях, публично выступали со мной в разных аудиториях».
Чуковскому футуристы были чрезвычайно дороги и своим отказом от торных путей, войной против пошлости, мальчишеством – он ценил веселое артистическое хулиганство и был готов ему всячески способствовать. Выступления футуристов собирали массу публики, не обходилось без полиции, приставов, скандалов, а иногда и рукоприкладства. Вот Корней Иванович вспоминает о лекции в Политехническом: «Помню, Маяковский как раз в ту минуту, когда я бранил футуризм, появился в желтой кофте и прервал мое чтение, выкрикивая по моему адресу злые слова. В зале начался гам и свист. Эту желтую кофту я пронес в Политехнический музей контрабандой. Полиция запретила Маяковскому появляться в желтой кофте перед публикой. У входа стоял пристав и впускал Маяковского только тогда, когда убеждался, что на нем был пиджак. А кофта, завернутая в газету, была у меня под мышкой. На лестнице я отдал ее Владимиру Владимировичу, он тайком облачился в нее и, эффектно появившись среди публики, высыпал на меня свои громы».
Виктор Шкловский, примыкавший тогда к футуристам, относил Чуковского к «футуропитающимся», как и Шершеневич. В книге «О Маяковском» он с плохо скрываемой неприязнью рассказывал, как Чуковский последовательно принижал великие таланты Хлебникова и Маяковского, не понимал их, выставлял дураками на потеху публике: «К Маяковскому Чуковский снисходителен». «Но это только начало. Критик ведет снижение дальше». «Хлебников в то время, когда писал Чуковский, уже обнародовал свои поэмы, уже давно был известен „Зверинец“, но так смешнее, так удобнее для читателя, чтобы все были маленькие». «Мы поехали в Бестужевский институт. Доклад читал Корней Иванович. Он закончил возгласом о науке и демократии:
– Ничего не выйдет у футуристов! Хоть бы голову они себе откусили, – выпевал он…
Аудитория решила нас бить.
Маяковский прошел сквозь толпу, как раскаленный утюг сквозь снег. Крученых шел, взвизгивая и отбиваясь галошами. Наука и демократия его щипала. Я шел, упираясь прямо в головы руками налево и направо, был сильным – прошел.
А Корней Иванович повез свой доклад дальше».
Здесь все замечательно – и Чуковский в роли злонамеренного провокатора, и это трогательное «мы», и образ сильного автора (почти такого же сильного, как Маяковский), проходящего сквозь драчливую толпу. А замечательнее всего время, когда Шкловский опубликовал свое произведение – 1938 год.
Понимал ли Чуковский футуристов? Он сам признавался позже, что недооценивал Хлебникова. Называл его «кабинетным экспериментатором в области создания новых слов на основе старинных суффиксов». С Маяковским обходился и впрямь непочтительно: «Когда привыкнешь к его надсадному крику, почувствуешь здесь подлинное». «Хорош урбанист, певец города, – если город для него застенок, палачество!» «Хочется взять его за руку и увести из этого кирпичного плена…» – в прижизненном издании собрания сочинений Чуковского этой фразы, язвительно приводимой Шкловским, уже не осталось, стоит нейтральное: «уйти бы ему отсюда – на поляны, в леса!».
Но и в самом деле: если Хлебников уже успел опубликовать значительные произведения, Северянин вполне проявил себя и никогда уже не сделал ничего большего, а Елена Гуро сказала почти все, что могла, и была занята сосредоточенным тихим – вскоре свершившимся – умиранием, если в эпигонстве Шершеневича и малозначимости Гнедова Чуковский не сомневался и история только подтвердила его выводы, то с Маяковским осенью 1913 года далеко не все было понятно. Он еще не только не был выдвинут на роль лучшего и талантливейшего поэта и трибуна революции (легко было Шкловскому обличать Корнея Ивановича задним числом с такой выигрышной позиции), но даже не написал почти ничего из впоследствии прославивших его стихов – более того, всячески замалчивал все, что писал до 1912 года. Поэтический стаж у Маяковского к этому времени был совершенно младенческий – и все-таки Чуковский разглядел в нем огромную поэтическую силу, о чем и написал сразу в «Русском слове». Однако авансов пока не выдавал: на авансы он вообще был не особенно щедр. Кстати, об Ахматовой, к тому же 1913 году уже довольно знаменитой, он тогда и вовсе ни словом не обмолвился – и заговорил о ней, когда стало понятно: это действительно большой поэт. В художественном исследовании Чуковского «Ахматова и Маяковский» оба этих поэта стали символами послереволюционной России. Но до тех пор и Ахматовой, и Маяковскому, и Чуковскому, и всей стране оставался долгий путь в семь трудных лет.