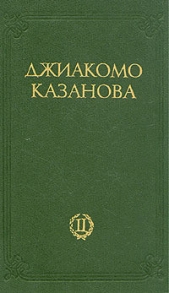История моей жизни

История моей жизни читать книгу онлайн
«История моей жизни» Казановы — культурный памятник исторической и художественной ценности. Это замечательное литературное творение, несомненно, более захватывающее и непредсказуемое, чем любой французский роман XVIII века.
«С тех пор во всем мире ни поэт, ни философ не создали романа более занимательного, чем его жизнь, ни образа более фантастичного», — утверждал Стефан Цвейг, посвятивший Казанове целое эссе.
«Французы ценят Казанову даже выше Лесажа, — напоминал Достоевский. — Так ярко, так образно рисует характеры, лица и некоторые события своего времени, которых он был свидетелем, и так прост, так ясен и занимателен его рассказ!».
«Мемуары» Казановы высоко ценил Г.Гейне, им увлекались в России в начале XX века (А.Блок, А.Ахматова, М.Цветаева).
Составление, вступительная статья, комментарии А.Ф.Строева.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Жид сей был чрезвычайно толст и вечно лежал в постели; днем он спал, а потому случалось ему по ночам бодрствовать; я же, как ему было слышно, спал недурно. Однажды, когда я как раз сладко уснул, он вздумал меня разбудить.
— ГОСПОДИ, — спросил я, — ну что вам нужно? Для чего вы разбудили меня? Коли вы кончаетесь, я вам прощаю.
— Увы! дорогой друг, я не могу уснуть, сжальтесь надо мною и давайте немножко поболтаем.
— И вы зовете меня «дорогой друг»? Мерзкий вы человек! Бессонница ваша, должно быть, сущая пытка, верю, и мне вас жаль; но если в другой раз вы вздумаете облегчить свои муки, лишая меня величайшего из благ, каким дозволяет утешаться природа в удручающем меня величайшем из несчастий, я встану с постели и вас придушу.
— Простите великодушно, впредь я не стану вас будить, будьте надежны.
Может, я и не придушил бы его, но что верно, это то, что в искушение такое он меня вводил. Узник, покоящийся в сладких объятиях сна, более не узник, и спящий раб не ощущает во сне цепей рабства, равно как не правят во сне короли. А значит, узник не может не почитать болтуна, что будит его, за палача, который лишает его свободы и возвращает в ничтожество; к тому же спящему узнику обыкновенно снится, что он на свободе, и греза эта заслоняет от него действительность. Я не мог нарадоваться, что не начинал трудов своих до появления этого человека. Он потребовал, чтобы в камере подметали, и прислуживавшие нам стражники, к веселью моему, объявили, что я от этого погибаю; но он был неумолим. Я притворился, что заболел от уборки, и если б я воспротивился, стражники не стали бы исполнять его приказа; но мне выгодней было явить снисходительность.
В Страстную среду Лоренцо предупредил, что после Терцы поднимется к нам г-н Чиркоспетто Сегретарио, Осмотрительный секретарь: то было обычное его посещение по случаю Пасхи, каковым поселяет он мир и покой в душах тех, кто желает получить Святое причастие, а одновременно выслушивает все жалобы узников на тюремщика.
— Вот, милостивые государи, ежели есть у вас какие на меня жалобы, так жалуйтесь, — заключил Лоренцо. — Оденьтесь в костюмы ваши, таково требование этикета.
Я велел Лоренцо привести мне на следующий день исповедника.
Итак, оделся я с ног до головы, а жид, облачившись, стал со мною прощаться: он нисколько не сомневался, что как только поговорит с Чиркоспетто, тот сразу отпустит его на свободу; предчувствие его, сказал он, из тех, что не обманывают. С тем я его и поздравил. Явился секретарь, дверь камеры открыли, и жид, выйдя из нее, упал на колени; в продолжение четырех или пяти минут доносились до меня одни лишь рыдания и вопли, но секретарь не проронил ни слова. Жид возвратился в камеру, и Лоренцо велел мне выходить. Стоял мороз, и я со своей восьмимесячной бородой и в костюме, придуманном любовью и назначенном для июльской жары, являл собою в тот день фигуру скорее комическую, нежели внушающую сострадание. От страшного холода трясся я, словно тень от заходящего солнца, и был этим весьма недоволен единственно по той причине, что секретарь мог подумать, будто я дрожу от страха. Из камеры я вышел согнувшись, а потому нужда в поклоне отпала; выпрямившись, взглянул я на него без гордыни и без подобострастия, стоя недвижно и молча; Чиркоспетто также не двинулся и не произнес ни слова; немая эта сцена длилась минуты две. Убедившись, что я ничего не скажу, он на полдюйма склонил голову и удалился. Я возвратился в камеру, разделся и лег в постель, чтобы согреться. Жид был удивлен, отчего не сказал я ни слова секретарю; но молчание мое было много более красноречиво, нежели его собственные трусливые вопли. Узнику, подобному мне, в присутствии судьи своего следует лишь отвечать на вопросы, не более.
На следующий день явился ко мне исповедник-иезуит, а в Страстную субботу священник из собора Св. Марка причастил меня святых тайн. Исповедь моя показалась миссионеру излишне краткой, и, выслушав ее, почел он за благо, прежде чем отпустить мне грехи, долго меня увещевать.
— Молитесь ли вы Богу? — спросил он.
— Молюсь с утра до вечера и с вечера до утра, даже тогда, когда ем и сплю, ибо в том положении, в каком я нахожусь, все происходящее в душе моей, все мои волнения, нетерпение, даже заблуждения ума моего не могут быть не чем иным, как молитвой пред лицом мудрости Господней, ибо один он видит мое сердце.
Своеобычное мое учение о молитве иезуит встретил легкой улыбкой и отплатил метафизической речью такого свойства, какое нимало не сходствовало с моим. Я опровергнул бы все, когда бы он, искусный в своем ремесле, не сумел удивить меня настолько, что сделался я меньше блохи. Вот какое пророчество он произнес:
— Именно мы, — сказал он, — научили вас религии, какую вы исповедуете, а потому отправляйте ее по-нашему, молитесь Богу, как мы вас учили, и знайте: выйдете вы отсюда лишь в день святого вашего покровителя.
Сказав так, отпустил он мне грехи и удалился. Слова его произвели на меня действие невероятное; я пытался забыть их — но напрасно; я произвел смотр всем святым, каких обнаружил в календаре.
Иезуит тот был духовник г-на Фламинио Корнера, старого сенатора, а в то время — Государственного инквизитора. Сенатор был известный сочинитель, великий политик, человек очень набожный, ему принадлежали благочестивейшие и необыкновенные творения, писанные по-латыни. Слава его была безупречна.
Известие о том, что я выйду из тюрьмы в день своего святого покровителя, переданное человеком, каковой, быть может, знал это наверное, исполнило меня ликования — оттого, что, как я узнал, у меня есть святой покровитель и я ему небезразличен; но чтобы ему молиться, мне надобно было знать — кто он? Сам иезуит, когда б и знал, не мог бы мне этого сказать, ибо разгласил бы тайну. Посмотрим, смогу ли я угадать, сказал я себе. То не мог быть Св. Иаков Компостелльский, чье имя я ношу: в его-то праздник мессер гранде и ворвался ко мне в дверь. Взяв календарь, изучил я ближайших святых и обнаружил Св. Георгия, святого весьма почтенного, но о котором я никогда даже не вспоминал. Тогда обратился я к Св. Марку: праздник его наступал двадцать пятого числа, и я, как венецианец, мог полагаться на его заступничество; я обратил к нему свои мольбы, но напрасно. Праздник минул, а я остался там же, где и раньше. Я выбрал другого Св. Иакова, брата Иисуса Христа — его празднуют вместе со Св. Филиппом; но снова обманулся. Тогда положился я на Св. Антония, каковой, как говорят в Падуе, совершает в день тринадцать чудес, — и снова напрасно. Так, переходя от одного к другому, постепенно привык я к мысли, что ждать заступничества святых — дело пустое, и убедился, что полагаться, мне надобно на единственного святого — на мой засов-эспонтон. Однако ж пророчество иезуита сбылось. Как увидит читатель, вышел я из тюрьмы в день Всех святых, и коли был у меня заступник, то праздник его, без сомнения, приходился на этот день, ибо тогда празднуются все.
Тремя-четырьмя неделями позже Пасхи избавили меня от жида; но домой беднягу не отправили, а приговорили к четверке, где пробыл он два года, а потом сослали до конца дней в Триест.
Едва остался я один, как принялся за дело с величайшей поспешностью. Я должен был торопиться: мог явиться еще какой-нибудь гость и потребовать, чтобы в камере подметали. Я отодвинул кровать, зажег лампу и улегся на пол с эспонтоном в руках, расстелив рядом с собой салфетку, чтобы собирать в нее щепочки дерева, в которое вгрызался острым засовом; надобно было проделать отверстие в полу, ковыряя его железным прутом; когда начинал я работу, щепочки были не больше пшеничного зерна, но потом превратились в большие обломки дерева. Пол был из лиственничных досок шириною в шестнадцать дюймов; начал я со стыка двух досок; там не было ни гвоздей, ни железных скоб, и работа моя подвигалась равномерно. Потрудившись шесть часов, завязал я салфетку и отложил в сторону, собираясь назавтра вытряхнуть ее в глубине чердака, за кучей тетрадей. Объем щепок был в четыре или пять раз больший, нежели отверстия, из которого я их извлекал. Дуга окружности составляла приблизительно градусов тридцать, а диаметр ее был около десяти дюймов. Я поставил кровать на место, на следующий день вытряхнул салфетку и понял, что могу не бояться, что щепки мои кто-нибудь заметит.