Позвонки минувших дней
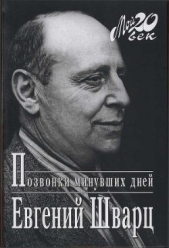
Позвонки минувших дней читать книгу онлайн
В дневниках одного из лучших советских драматургов Евгения Львовича Шварца (1896–1958) без прикрас рассказано о его собственной жизни и о десятках близко знакомых ему людей — С. Маршаке, К. Чуковском, Д. Хармсе, Н. Олейникове, М. Зощенко, Л. Пантелееве, Б. Житкове, К. Федине, В. Шкловском, М. Слонимском и др.
Читатель встретит на страницах умного, тонкого, открытого, доброжелательного, ироничного собеседника, иногда — беспощадного критика и всегда — тонкого стилиста.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Прелестный пес, длинный, коротконогий, мохнатый, серобелого цвета. Он работал в цирке, и у него во рту разорвалась петарда прежде, чем он успел положить ее куда следует. С тех пор отказался пес работать на арене, и Козинцев купил его. Дома показывал пес фокусы с охотой. Открывал двери и, выходя, закрывал их за собой. Ложился в чемодан и закрывал себя крышкой. Козинцев, печально — доброжелательный, стройный, как и в нынешнее время, но необыкновенно моложавый, совсем юноша. Ему пьеса очень понравилась, отчего я повеселел. Пришла Магарилл, красивая, очень отделанная, совсем как произведение искусства. И весь их дом показался мне еще более привлекательным. Все казалось мне понятным, кроме содружества с Траубергом, которого не принимала моя душа с его речами, уверенностью, круглым лицом и вытаращенными холодными глазами. Впрочем, Трауберга в этот день не было у них. Дом оставался подобранным, сдержанным. Я все начинал и не мог продолжить второе действие «Дракона».
Мы вместе с Любашевским в просторном министерском кабинете Храпченко. Комитет по делам искусств где‑то высоко, во втором или третьем этаже. Адреса не вспомнить. Во всяком случае, он не там, где во время войны. Не на Дмитровке. Во всяком случае, я так вижу сегодня. Может быть, на площади Ногина. Запорожская башка Храпченко. Улыбаясь и не глядя на меня, он заявляет: «Дракон», во всяком случае сейчас, пойти не может.
А по поводу пьесы Любашевского говорит подробнее. О «Драконе» он говорит как бы в пространство. Ему самому странно, что приходится возражать против пьесы антифашистской. Даже смешно. Поэтому он ограничивается одной фразой. Я не читал пьесы Любашевского. Но Храпченко возражает не по сюжету и не по частностям, и на меня веет тем самым дворцовым дыханием, с которым познакомился я так недавно. Я как будто слышу музыку, табель о рангах подымает невидимый штандарт, и далеко — далеко в тумане проходит хозяин, подобный божеству. «Такое ли хорошее свойство скромность? — спрашивает Храпченко. — Определяет ли оно советского человека? Прочтите “Парень из нашего города” Симонова. Там совсем другие черты…» Я ухожу из кабинета с перепутанными на столичный лад чувствами. Впрочем, совещание проходит тихо, никто меня не обижает. Напротив, я выступаю с успехом. Живем мы в гостинице «Москва», обедаем в «Национале». Нервы напряжены. Я много пью. Живем мы в одном номере с Любашевским. Однажды, после обеда, оба мы уснули. И вдруг я вижу, что один угол комнаты нашей переполнен чудовищами, голыми дьяволами, мужского и женского пола, вполне человекоподобными. Я вскакиваю. Самый маленький из дьяволов, старик, отделяется от толпы, бросается ко мне и беззубыми деснами кусает за колено — по своему росту. Я отбрасываю его. Тогда он присасывается к грудям дьяволицы, висящим чуть не до полу. Насосавшись, подрастает, бежит ко мне. Я усилием воли просыпаюсь, но вижу, что угол комнаты переполнен все теми же голыми чудовищами.
Все повторяется. Старик снова кусает мое колено. Я просыпаюсь в третий раз. И, чудовища по — прежнему тут. На этот раз старик, отброшенный в угол, насосавшись, вырастает в человека обычного роста. Он шатается, как пьяный, двигаясь ко мне. В руках его нож, и, чтобы не упасть, он вонзает его в дьявола, стоящего на пути ко мне, держится за рукоятку. Это уж слишком страшно. Я вскакиваю так, что бужу Любашевского, слышу его сонный голос: «Ты что кричишь?» — и вижу обычный номер гостиницы «Москва», освещенный и расположенный иначе, чем в моем страшном сне. Но мысль, которую я сам не считал соответствующей действительности, а чем‑то вроде игры или мелочи, осталась навсегда — тут, в центре, набито дьяволами. Даже я, человек трезвый и холодный, вдруг увидел их. И вот я вернулся домой, и началась жизнь, полная забот, радости, ответственности и горестей. Отцу становилось все трудней. Договорились, чтобы к нему приходила дежурить сестра. Появилась тощая, черная, узколицая, немолодая особа, с сожженными волосами и тем самым безразличием, что и в больнице, которое рядом с живой болью казалось жестокостью. Папа обрадовался, засуетился и велел сестре записывать все: температуру, пульс, общее состояние, какие лекарства он принимает. А у меня хватило жестокости возразить против этого. И папа, глядя на меня своими темно — серыми невидящими глазами, дрогнувшим голосом сказал: «Что ты! Так нужно, нужно!» Его прямой и простой разум затуманивался. Он, всегда насмехавшийся над гомеопатией, стал вдруг принимать гомеопатические лекарства. Он честно сражался со смертью. Не хотел отступать, боролся всеми силами. Теперь уж бывал я у стариков каждый день. Мама лежала — припадки Миньера участились. Папа сидел, закутавшись в красное одеяло, считал пульс, глядя на часы искоса, чтобы секундная стрелка попала в поле его зрения. И я спешил говорить, рассказывать, чтобы хоть сколько‑нибудь отвлечь моих больных от мрака и холода.
Дело усложнялось тем, что окаменели и не исчезли обиды, нанесенные в молодости. Близость, разрушенная в те дни, не могла возродиться в старости. Впрочем, неверно. Близость не исчезла, окаменев. Близость обиды. Мама — душа сложная, ранимая — ничего не простила и не забыла. Не больной старик, а все тот же муж, сказавший когда‑то в бешеной шварцевской вспышке: «Люби меня, пожалуйста, поменьше», жил возле. Не сердилась на него мама — душа все болела. Прирожденная артистка — не ушла она на сцену. Неиспользованные силы все бродили и мучили. Она не сердилась, но спорила с отцом как с равным. Правда, ведь и она была тяжело больна и стара — но еще полна жизни. Я тут не мог вмешиваться. Или, по душевному сходству, внутренне вдруг соглашался с матерью. Беда! Я уходил, и туман на некоторое время шел за мной облаком. Но что- то в силе и определенности этого страдания внушало уважение. А жизнь шла. Конец сорокового и начало сорок первого сливаются у меня в одно. Реет начал работу над «Давайте не будем». Я написал отрывочек для одной части программы настолько неудачный, что пришлось его снять. Тем не менее, и к удовольствию и к раздражению Реста, меня считали основным автором программы. Объяснялось это еще и тем, что вступительное слово, по настоятельному требованию Реста, говорил я. В перепутанной моей душе одним из яснейших и несомненных чувств была моя любовь к Наташе…
Я становился холоден, против моей воли опускались какие- то заслонки. Катюша и Наташа — вот где я не мог никогда омертветь, впасть в полусонное состояние. Если же дело касалось хотя бы людей, которых я любил или был к ним привязан, заслонки делали свое дело. Я знал, но не понимал с достаточной глубиной, что папа безнадежно болен. У Тони с отцом его и близкими отношения были куда более простые и здоровые, и я который раз завидовал шварцевской цельности, недоступной мне. Беда в том, что заслонки эти не освобождали тебя от ощущения неблагополучия. Можно заткнуть уши, когда гремит гром. Но молнию видишь. В общем, объяснить все это трудно. К папе ходил литфондовский врач Шафир. Он предупреждал меня, что положение тяжелое. Да я и сам это видел. Через Литфонд стали хлопотать, чтобы его положили в Военно — медицинскую академию. В первых числах декабря приехала за ним машина с санитарами. Его одели. У него была шапка, кубанка. Мама лежала на кровати в своем углу. Проходя мимо, он прикоснулся к шапке своей, будто отдавая честь, и дрогнувшим голосом сказал: «Ну, до свидания». Мама ответила что‑то. Так, не попрощавшись, не примирившись, не сводя счеты, расстались мои старики. В том корпусе академии, против которого стоит памятник Боткину, ввели папу в необыкновенно чистый вестибюль. Его приняли тут более бережно и внимательно, чем в Куйбышевской больнице. Потом проводили его клифту. Мне объяснили, что я могу прийти после трех. Отец беспомощно позвал меня из лифта. И когда я пришел в тот же день, сказал: «Я видел, как ты вдруг провалился куда‑то». Он был в полусознании, почти бредил и не понял, что он поднимается в лифте, ему почудилось, что я ухожу вниз. Сначала папа лежал в просторной палате на двоих, потом перевели его в маленькую на одного. Врачи тут были ласковы с папой. И он чувствовал это. Однажды зашел к нему ведущий его доктор, заговорил, и лицо у папы преобразилось — вдруг приняло веселое, чуть насмешливое и добродушное выражение…


























