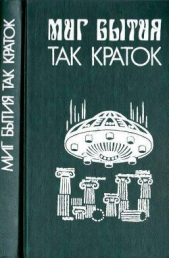Книга бытия (с иллюстрациями)

Книга бытия (с иллюстрациями) читать книгу онлайн
Двухтомный роман-воспоминание Сергея Снегова «Книга бытия», в котором автор не только воссоздаёт основные события своей жизни (вплоть до ареста в 1936 году), но и размышляет об эпохе, обобщая примечательные факты как своей жизни, так и жизни людей, которых он знал.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Не один Аркаша — мы все ждали решающего жизненного поворота. И тайно боялись, что он не получится. Мы метались из крайности в крайность: расписывали красочные перспективы послешкольного бытия — и про себя ужасались, что краски недостаточно яркие.
Фима определился твердо: он пойдет в училище живописи, потом — в архитекторы. У него в голове грандиозные планы: он переустроит наш город, возведет такие дома и дворцы, что страх будет задирать голову. В общем — схватит Бога за бороду.
Вася Визитей о будущем тоже не тревожился. Он возвратится в свою приднестровскую Беляевку — дел в поселке невпроворот, ему прямо пишут: «Ждем тебя Вася, без тебя нам вскорости невпродых — кулачье одолевает». Я кулачье вмиг прижму, хвастался Вася, а румынобоярам, что за рекой, такой шиш выставлю — ни в жизнь не выкусят! Перспективы, что и говорить, были зажигательные — Васе многие завидовали.
Гораздо хуже выглядело будущее моего нового друга Мони Гиворшнера. Я подружился с ним не сразу и как-то против воли. Он был социально порченный. Отец торговал, даже завел собственную нэпманскую лавчонку — папиросы, трубки, курительная бумага. Впервые увидев Моню, я удивился его одиночеству. Никто с ним не играл, он не ходил на пионерские сборы, не посещал мопровские и безбожные ячейки. Низкорослый — еще ниже меня — густо-курчавый, с каким-то удивленным лицом, он каждую свободную минуту проводил на турнике и вертелся так лихо, откалывал такие штучки, что вокруг всегда собирались восхищенные зрители.
Лизавета Степановна говорила, что он может стать мастером спорта, может быть, даже чемпионом — если постарается и если повезет. Впрочем, пока до чемпионства было далеко. Энергичная наша учительница, споря и уговаривая, добилась, чтобы Моню приняли в пионеры и зачислили в мопровцы и безбожники. Еще она ввела его в синеблузую труппу, но больше чем на статиста его не хватило — и тут уж действовала не классовая порочность, а природная недостаточность.
Меня предупредили о Монином соцположении, и я некоторое время старательно его обходил, только издали любуясь упражнениями на турнике. Но как-то после занятий он задержался в школе и, поставив на парту шахматную доску, стал разыгрывать сам с собой этюды. Я тоже задержался — по общественным делам. Сначала присматривался, потом подошел. Моня молча, не глядя на меня, двигал шахматные фигурки.
— Ты, оказывается, шахматист, — установил я.
— Оказывается, шахматист, — согласился он.
Я наблюдал — он молчал. Я ждал, что он предложит мне партию. Я еще не знал, что болезненно самолюбивый Моня никогда ничего не предлагает и ничего не просит у незнакомых, чтобы не нарваться на отказ. Прождав минуты две, я сам предложил сразиться. Он охотно согласился. Я был убежден, что поставлю его на колени минут за десять — и почти не ошибся (во всяком случае — во времени): не прошло и десяти минут, как я был разгромлен.
Мы начали вторую партию — она закончилась еще быстрей, и тоже моим поражением. Впоследствии мы играли с ним не одну тысячу раз, и я гордился, если из десяти проигрывал не больше восьми. А в тот вечер, складывая фигуры, он ободряюще сказал:
— Ты, в общем-то, ничего, только торопишься. Это со временем пройдет.
С возрастом торопливость, конечно, прошла (особенно когда первая близкая подруга шепнула мне: «Не торопись!»). Но абсолютная бездарность в гимнастике и в шахматах — двух Мониных коньках — осталась на всю жизнь.
Подружившись, мы стали обсуждать будущее.
— Тебе хорошо, — сказал Моня. — Ты станешь великим ученым, это уже сейчас видно. Когда-нибудь определишь наконец, что такое энергия, масса, инерция. Подумай тогда и обо мне, твоем скромном слушателе. Вспомни, как мы пересоздавали мир в наших отвлеченных разговорах. А мне ничего не светит. Сын торговца — это не то пятно, которое можно стереть щеткой.
Я был твердо уверен, что мое будущее он определил точно (разве что слегка приуменьшил). А самого Моню было жаль — происхождение по желанию не изменишь. Я все же попытался найти в его бесперспективности хоть что-нибудь радужное.
— Ты можешь пойти по спортивной дороге, Моня. Или серьезно заняться шахматами. Лизавета Степановна считает, что в гимнастике ты выдающийся тип.
Он уныло махнул рукой.
— Чтобы достичь чего-нибудь в спорте, надо пойти в гимнастическую школу, а там — анкеты. Кто меня примет — с моим-то отцом?
Как и следовало ожидать, все получилось иначе. Больших успехов Моне не выпало, но он закончил институт, удачно повоевал, ударно поработал на заводе в Риге, только вот умер не добрав возраста — около пятидесяти.
И у меня, естественно, все пошло наперекосяк ожиданиям. И ученым не стал — тем более великим, и почти половину человеческой своей зрелости провел за железной проволокой. Вторая, правда, прошла на свободе, но тоже в застенках — идеологических. А вот биологически я задержался на земле сверх ожидания — впрочем, на это не жалуюсь.
Много жесточе расправилась судьба с другим моим другом — Генрихом Вульфсоном.
Если был в моем окружении по-настоящему странный человек — и внешне, и по характеру — то, несомненно, он, мой добрый Генка. Высокий, большеголовый, жутко лохматый, с ранними усиками, молчаливо слоняющийся по школьным коридорам, во дворе он всегда присаживался где-нибудь в сторонке. У него рано открылся густой, соборный бас, но колокольный его голос редко звучал в школе: на вопросы и оклики Генка обычно отвечал не репликами, а улыбками — чаще смущенными или виноватыми. Только со мной он разговаривал охотно. Во-первых, хороший рассказчик (впоследствии — даже лектор и оратор), я умел и любил слушать. Он, загораясь, мог говорить часами — я, тоже загораясь и тоже часами, был способен его не перебивать.
Во-вторых (и это еще проще), у него был единственный друг — я.
Эта дружба началась нехорошо — можно сказать, мы подружились недобро.
Между нами встала Фира Володарская.
Я не уверен, что был в нее влюблен. Если — да, то это было нечто иное, чем дальнейшие мои любви, любовишки и увлечения. Я-то считал, что сохну по Рае из седьмой группы (она была на год старше меня) — активистке, главе нашего форпоста, объединявшего четыре пионерских отряда, стройной, золотоволосой (две толстых косы падали чуть не до бедер), «девочке в желтом пальто» — так я мысленно называл ее, еще не узнав настоящего имени.
Мы учились вместе всего два месяца, только три-четыре застенчивых разговора скрепляли нашу внезапную дружбу. Сразу после выпускного вечера их группы (это был первый выпуск нашей школы) отец увез Раю в Балту (он там работал). Она написала мне — я немедленно отозвался. Переписка наша продолжалась почти три года. Она отправляла мне коротенькие сообщения о своем житье-бытье, я изливал душу на листах белой рулонной бумаги — каждое письмо не меньше метра в длину.
Фира Володарская вторглась в мою жизнь как раз в разгар переписки с Раей.
Сперва она поглядывала на меня без интереса. Ей было не до того — теснили поклонники. Самая красивая девочка школы, она не только знала об этом, но и умело этим пользовалась. Фима, боевой секретарь нашего второго отряда, назначал пионерские сборы лишь на те часы, какие были удобны Фире. Гриша Цейтлин, знаменитый горкомовский пионерорганизатор, бывая у нас, всегда находил минуту (а иногда — час), чтобы поговорить с ней. Генка, мой будущий друг, в нее влюбился — очень по-настоящему и очень по-своему: ходил поодаль, никогда не приближался, молча смотрел, молча слушал, что она говорила другим (к нему Фира обращалась редко)… Он был похож на шиллеровского рыцаря Тогенбурга (у меня был пик увлечения Шиллером), молчаливо и долгие годы вздыхавшего у окон так и не признавшей его возлюбленной. Я еще не начинал любовного спринта (до этого оставалось несколько лет), но уже тогда мог бы цитировать (если бы, конечно, знал цитату) строчки Саши Черного о том, как должен держать себя подлинный Дон-Жуан, а не слезливый немецкий барон: