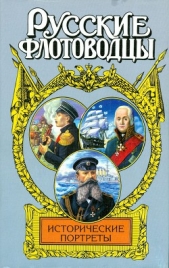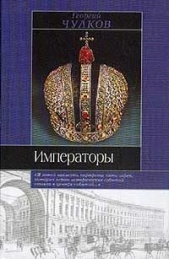Двор и царствование Павла I. Портреты, воспоминания
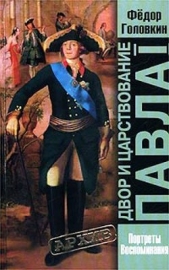
Двор и царствование Павла I. Портреты, воспоминания читать книгу онлайн
Граф Ф. Г. Головкин происходил из знатного рода Головкиных, возвышение которого было связано с Петром I. Благодаря знатному происхождению граф Федор оказался вблизи российского трона, при дворе европейских монархов.
На страницах воспоминаний Головкина, написанных на основе дневниковых записей, встает панорама Европы и России рубежа XVII–XIX веков, персонифицированная знаковыми фигурами того времени.
Настоящая публикация отличается от первых изданий, поскольку к основному тексту приобщены те фрагменты мемуаров, которые не вошли в предыдущие. Таким образом, данное издание представляет собой наиболее полный свод воспоминаний Ф. Г. Головкина.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
…Но вот приехала герцогиня Нарбонн и прислала за мною.
Флоренция, 6-го ноября 1816 г.
…От графини Аппони я пошел к г-же Нарышкиной [298]. Она как раз писала и жаловалась на перья. Что перья! Я вынужден писать без пюпитра — ибо нельзя все тащить с собою — и никогда не привыкну к этому. Пока я восторгаюсь их фазанами, является камердинер, ставит на стол большой четырехугольный сверток и уходит. Я срываю оберточную бумагу и нахожу под ней прехорошенькую английскую шкатулку, которая раскрывается и преобразовывается в пюпитр со всеми необходимыми отделениями для письменных принадлежностей! На этой красивой подставке я имею честь Вам теперь писать, сударыня. На другой день я рассказываю об этом подарке Луниным, у которых как раз была в гостях наша посланница. «А что вы охотнее всего выпросили бы у г-жи Нарышкиной, если бы знали вперед о ее страсти делать подарки, — спросила она меня. — Ведь у нее столько вещей, которые можно дарить!» — «Ах! Я попросил бы у нее старую шаль, чтобы сделать себе из нее теплый жилет на зиму, а также Португальскую воду, ибо во Флоренции нельзя раздобыть сносных духов», — ответил я. После этого я, как всегда, отправляюсь домой, чтобы переодеться к обеду. И что же я вижу? Прелестную шаль, распростертую на белье, и большой флакон Португальской воды парижского произведения на столе. Я одеваюсь и являюсь к этим дамам с грозным выговором. Я предупреждаю их, что потребую скоро луны и солнца. После разных шуток я говорю г-же Хитрово, что нельзя подвергаться такому риску, что я мог бы захотеть ее маленькую печатку, которую она так любит, и поймать ее на этом. Затем я иду обедать к графине Толстой. Я сажусь и чувствую, что меня что-то давит в кармане; я его ощупываю и что же оказывается? — в кармане — печатка! На сей раз я решил молчать и даже не говорить об этом моей племяннице, так как дело принимало ужасающие размеры. С тех пор они забавляют тем, что стараются меня ловить, осведомляясь о моем вкусе насчет той или другой вещи. Вы, конечно, поймете, что я все нахожу отвратительным, мерзким и что это вызывает бесконечный хохот. Генерал Хитрово хотел препроводить ко мне прелестно оправленную луну, которую я еще раньше облюбовал, но я ему заметил, что я назойливость прощаю только дамам, а от него требую больше уважения к себе.
Флоренция, 13 ноября 1816 г.
…У нас теперь гостят князь и княгиня Гагарины, очень милые люди, но которые здесь только проездом. Он, до некоторой степени, знаменитость [299]. Красавица Нарышкина в него влюбилась, и любовь их была настолько неосторожна, что ей посоветовали отправиться в путешествие, а статс-секретарь получил отставку. Благодаря этому, он помирился со своей женой [300], с которой ради этой страсти расходился, и они теперь казались совершенно счастливыми… Княгиня Гагарина близкая подруга моей племянницы Толстой [301], и их связывает католицизм. Они находились во главе светских дам, отступивших от православной церкви, и их неосторожный пыл был причиною изгнания из России иезуитов. Здесь, где они свободны поклоняться Римскому Богу, они соблюдают чрезвычайную сдержанность, а в Петербурге они мечтали о мученичестве, как итальянки мечтают о любовнике. Муж графини теперь умирает в Карлсбаде и должно быть уже умер, что нас заставляет не пускать ее к нему. Ее здоровье не перенесло бы путешествия зимою, и она все равно опоздала бы или оказалась бы излишней. При нем, впрочем, неотлучно находится его дочь, княгиня Любомирская, с мужем, так что в уходе нет недостатка…
Что касается России, то я должен Вам рассказать забавную вещь. Никто не знает так мало толку в еде и никто так плохо не кушает, как Лунины, мои соседки. Они на это жертвуют четвертую часть своих доходов, но ничего в этом не понимают и, в конце концов, умрут от расстройства желудка, какое получается в кухмистерских. И вот я однажды стал им рассказывать, как посланник, у которого один из лучших поваров Европы, угостил меня паштетом из фазанов с трюфелями — такими вкусными, что когда я шесть дней спустя опять у него обедал, я настоятельно просил дать мне хотя бы остатки этого паштета. От этого рассказа в моих соседок потекли слюнки. Они устроили совет и пригласили к себе этого знаменитого повара, стараясь его всеми мерами задобрить и, наконец, заказали ему такой же точно паштет, как я описал. Вчера Гагарины и я были по этому случаю приглашены к обеду. Он был великолепен. Но знаете ли Вы сколько он стоит? 168 паоли [302]! Я это рассказал Хитрово, который заметил: «Эти сумасшедшие бабы не знают, что мой повар величайший вор на свете, и что когда моя жена заказала прошлый вторник четыре тарелки сладких пирожных, он ей подал за них сверхсметный счет в 200 паоли» [303] — Вы совершенно правы, называя подобное расточительство ужасным. Когда этот генерал, которого я, впрочем, люблю от всего сердца, был здесь еще без жены и обедал вдвоем со своим секретарем, ежемесячный расход на стол, не считая вин и десерта, был определен в 500 червонцев (400 луидоров); заметьте при этом, что жизнь здесь вообще дешево стоит; Луккезини мне еще вчера сказали, что если бы не опасение вызвать напрасную болтовню, они каждый день звали бы к себе обедать не менее десяти человек.
Флоренция, 16 ноября 1816 г.
Умер Виртембергский король [304]. Смерть одного тирана, какая это будет радость для многих!
Но помните, что настанет время, когда о нем будут жалеть. Это был единственный благонадежный оплот против либеральных идей, которые погубят Германию. Теперь глава оппозиции сделался монархом. Увидим, что из этого выйдет для страны! Ваш брат [305] будет сначала очень доволен, но скоро положение покажется ему нестерпимым. Пока что, Растопчин шныряет там, чтобы примириться с помощью сестры [306], с братом, но он обманется в своих надеждах, ибо сестра потеряла всякое влияние. Мне дали прочесть этот великий секрет в письме, полученном с Севера и писанном официальным лицом.
Флоренция 24 ноября 1816 г.
…Со мною случилась довольно странная вещь, и Вас, может быть, заинтересует узнать об этом некоторые подробности. Это касается письма посланника, с которым я вел переписку, в то время, когда он был на Вашем сейме [307]. Оказывается, что Бернодотт пожаловался по поводу моего сочинения, и меня просят пощадить в будущем союзников того, кому я обязан величайшим благоговением. Мне не запрещают писать, нет; мне даже кажется, что хотят немного польстить моему писательскому самолюбию, как доказывает следующая фраза: «Желательно, чтобы им, окруженное таким почетом, как Ваше, не было замешано в официальных жалобах, столь правильно мотивированных». А вот мой буквальный ответ; он так короток, что я решаюсь его здесь привести: «Не пользуясь известностью, ни как писатель, ни как государственный деятель, я мог бы удивиться, что мне приписывают сочинение: «Рассуждения и пр.», которое даже не носит моего имени. Но если энергичная защита дела религия, нравственности и законных монархов составляет тот признак, по которому думают узнать меня, то я не имею основания на это жаловаться. Я сожалею, что причинил беспокойство шведскому Двору, но если он так хорошо осведомлен, то как же он не знает, как давно и насколько я удалился от всего, что называют службой и влиянием, и что не мне, по-видимому, будет поручено защищать интересы племянника Е. и. Величества, моего августейшего государя. Если же на этот счет еще существовало бы сомнение, то я просил бы Ваше Превосходительство его рассеять.