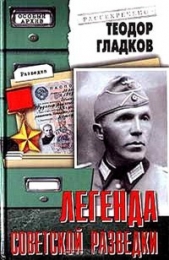Звать меня Кузнецов. Я один

Звать меня Кузнецов. Я один читать книгу онлайн
Эта книга посвящена памяти большого русского поэта Юрия Поликарповича Кузнецова (1941—2003).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Порой сидишь у него в редакции. Он за столом, какие-то там бумаги, рукописи разбирает. Идут звонки. Что спрашивают, не слышно, но слышно, что он отвечает, например: «Да. Отобрали два стихотворения. Пойдут в таком-то номере…». Потом ещё звонок: «Нет, ничего не отобрали… Ничего художественного! — так уже на повышенных тонах. — Стихи в редакции остаются, мы не обязаны возвращать…». «Ну, как почему „не понравилось“?! Ну не понравилось!» — уже начинал поднимать тон…
Некоторых поэтесс ценил. Но в целом признавал, что по-настоящему, ни евреи не могут создать настоящего искусства, ни женщины. «Ну что, — говорит, — в музыке — Мендельсон, Бизе. Больше не было. А в живописи евреев вообще практически не было среди сильных художников, титанов. В поэзии — Гейне. И то — слабый поэт.»
О любви к России он много раз говорил. Помню, что когда Кузнецов увидел пастуха с плеером в наушниках, ему стало понятно, что «погибла Россия».
— А про «белых» и «красных» он говорил что-нибудь?
— Да, говорил. Вспоминали мы с ним, как вожди Белого движения пошли благословляться у Оптинского старца, а тот сказал: «Не надо! Только побьёте друг друга, кровь прольёте!». И не стал благословлять. Кузнецов это знал, конечно. Так же и про церковный раскол он говорил: «Раскол — это была трагедия для русских. Трещина прошла внутри народа!». Выделял язык Аввакума. А вот про 12-томник древнерусской литературы Лихачёва он как раз выражал недовольство, что он составлен куце, однобоко, что «Слово о законе и благодати» Илариона в него не вошло: «Это же большой минус!» — говорил. И вообще направление лихачёвское Кузнецов недолюбливал.
— А чем именно Лихачёв ему не нравился?
— «Интеллигент, — говорил, — такой… Плохо русское понимал». Так что к Лихачёву не было у него никогда пиетета. Он его воспринимал как диссидента. Потом он читал сборник его работ, говорил: «Нет чувства в его писаниях… Холодный какой-то, бесстрастный».
— А про борьбу со злом, про сатану у вас не было разговоров с Кузнецовым?
— У меня у самого был такой случай. Я в метро в переходе шёл. Вокруг очень много народу. Вдруг один мужик говорит: «Дайте что-нибудь ваше!» Я так посмотрел на него: «Ну что?» Он говорит: «Ну, ручку». Я говорю: «А зачем вам?». Он: «Ну, дайте». Я ещё раз посмотрел на него — вид мне его совершенно не понравился: какая-то от него мёртвость исходила, как будто это и не человек. Вроде человек, а вроде и не человек. И тут он говорит мне: «Он силён, но мы сильнее вас!» или «Мы всё равно сильнее Его!..» (что-то такое). Это со мной было на самом деле. Я Кузнецову рассказывал. Он с пониманием отнёсся. Ведь кузнецовский мир это всё в себя вбирает. Он всегда знал, что существует не только Бог, но и враги рода человеческого — бесы. Знал Кузнецов и о том, что бесы живут между небом и землёю, что Поднебесье или «земное небо» — их пристанище. Это видно, например, по стихотворению «Поэт и монах», где Кузнецов пишет, как «враг качает поднебесьем…». Вообще, с самого начала нашего знакомства и до последних дней он не раз говорил мне о себе: «Я родился поэтом, чтобы сразиться своими стихами (творчеством) с Сатаной, с Мировым злом». Я однажды в связи с этим вспомнил предостережение Серафима Саровского и уже в двухтысячных годах принёс Юрию Поликарповичу книгу Сергея Нилуса, где описывается разговор по этому поводу преподобного Серафима со своим «служкой» Мотовиловым: «— Батюшка! Как бы я хотел побороться с бесами!» — воскликнул Мотовилов. А Батюшка Серафим его испуганно перебил: «— Что вы, что вы, ваше Боголюбие! Вы не знаете, что говорите. Малейший из них своим когтем может перевернуть всю землю!». А потом, дальше по тексту там есть страницы, где рассказано, как по Божьему попущению, в Мотовилова вселилось бесовское облако, и подробно описано, как он при жизни и наяву претерпел три геенские муки: огня несветимого, сжигающего изнутри, тартара лютого, не согреваемого ничем, и червя неусыпного, который грыз его внутренности, вползал и выползал через рот, уши и нос… На Кузнецова это сильно повлияло. Он долго потом держал у себя эту книгу.
К тому, что я стал ходить в церковь, он положительно отнёсся. Сначала немного подшучивал, когда я ходил в подряснике. Но потом говорил: «Как же вам тяжело приходится исповеди принимать! Сколько вы там выслушиваете!».
Я сказал, что Господь даёт силы, таинство совершается, и спасаешься. Потому что самому это вынести невозможно. Много людей приходит… Кузнецов признавал, что священство ближе к Богу, чем писатели, поэты, деятели искусства. «Вы ближе, — говорит, — чем мы». Так что он к этому относился серьёзно.
Как-то я ему сказал: «Это милость Божья, Юрий Поликарпович, что вы занимаетесь любимым делом, и даже живёте рядом с работой — до Цветного бульвара, где находится журнал „Наш современник“, вам рукой подать, и даже остановка троллейбусная рядом!». Но он на это довольно резко возразил: «— Ну, Бог здесь не причём! Станет он такими пустяками заниматься!». До таких ли, мол, ему мелочей. Это тоже для меня — живое свидетельство серьёзного отношения Кузнецова к вопросу веры, Бога. Он считал, что лишний раз об этом не стоит говорить, суесловить.
Ещё он говорил: «Можно кого хочешь обмануть. Даже самого себя. Но с Богом…» (ухмыльнувшись так, покачав головой, как будто что-то вспомнил). С Богом, мол, не пройдёт…
Говорил Кузнецов и о том, как душа проходит мытарства. Тоже много раз к этой теме возвращался. У него даже стихотворение есть, где «Душа улетает бесплотной / Сквозь двадцать сетей навсегда» («Прощание духа», 1986). Здесь число двадцать не случайно. Речь идёт именно о двадцати мытарствах, которые душа после смерти человека проходит на пути к Богу.
Конечно, Юрий Поликарпович сожалел, что время православного пробуждения Руси как-то прошло мимо него, потому что это началось довольно поздно, а он был воспитан всё-таки в советское время. «Это всё мимо меня прошло, — так с горечью говорил. — Я человек другой формации…» «Но сейчас, — говорит, — новая уже пошла волна, с которой мне приходится считаться, как-то уживаться. Приходится читать, отбирать для журнала религиозные стихи. Уж не знаю, как они в смысле богословия…». Это в конце 1980-х был у нас разговор. Только-только разрешили говорить о Боге, печататься с такими стихами. И он одну поэтессу на этой волне открыл. В общем-то, как стихотворец, она была довольно слабая — Нина Карташова. И впоследствии он жалел: «Я потом её раскусил, да поздно…». А тогда он стал её толкать, позволял печататься у себя в журнале и т. д. А потом понял, что это — только внешняя форма, имитация одна. Он ещё, помню, посмотрел на её фотографию в книжке — «У неё же лицо безумное! Глаза шизофреника!». «А почему же вы её печатаете, Юрий Поликарпович?». «Да она уже как-то обросла своим читателем, её стихов ждут…».
Вообще, когда в стихах что-то говорится о Боге, это ещё мало что значит. Кузнецов, конечно, это и раньше понимал. Мы тогда выпускали книжку — сборник стихов русских поэтов о Боге. И он говорил: «Стихов-то там практически нет! Пересказы какие-то библейских тем…» И, в общем, поэзии-то там Кузнецов, как правило, не находил. Но бывали исключения. Вот, например, «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона. В нём он чувствовал и мощь, и поступь, и поэзию…
— Расскажите, как изменилось ваше общение с Юрием Поликарповичем после того, как вы стали священником.
— Когда я стал ходить в храм, вся эта моя жизненная полоса воцерковления прошла без общения с Кузнецовым. Я вообще от литературы отошёл. Считал, что «это неважно», что «не об этом нужно думать». И мы с ним практически тогда не общались. С 1992-го года, наверно, лет восемь-девять был перерыв в нашем общении. Изредка я его встречал. Однажды встретились летом на Цветном бульваре. Он достал мне книжку «До свиданья! Встретимся в тюрьме», подарил и подписал с таким пожеланием: «Плачь и молись, Юрий Кузнецов». А раньше он надписывал: «С приветом! Юрий Кузнецов», «На память…» и т. д. Когда вышло переиздание Афанасьева в «Современном писателе» он мне тоже позвонил — подарил. Вообще он тогда был в напряжённом состоянии, это чувствовалось… Цены прыгали в то время, и у них с Батимой целое состояние пропало… Я им говорил, когда он эти деньги павловские получил: «Надо вам что-то покупать…». Тогда речь шла о машине или даче. «Зачем мне машина? — говорит. — Первый столб — мой! Я не буду учиться». Дачи смотреть кто-то из них ездил по разным направлениям… Но все эти сбережения, гонорары большие в итоге просто пропали… Дожили до того, что он ездил за картошкой к знакомым… У Олега Кочеткова под Коломной отец жил в деревне, и он предложил съездить (он его «Юра» называл, они почти ровесники). Юрий Поликарпович согласился. И вот они поехали, и привезли на своих руках эту картошку. Понимаете, время какое было? 1990-е годы… Вся эта голодуха, конечно… Я помню, он тогда сумрачный довольно был, пытливо смотрел на меня при встрече: «Как ты?». А я тогда воцерковлялся, и настроение у меня было, наоборот, не то чтобы благодушное, но… жилось радостно, в церковь ходил, к вере приобщался. Он эту разницу увидел, наверно, и общения такого, как раньше, у нас не было…