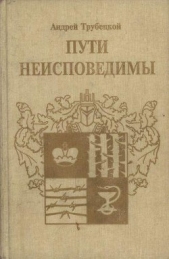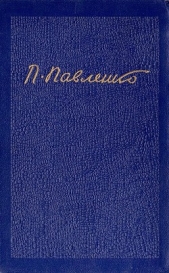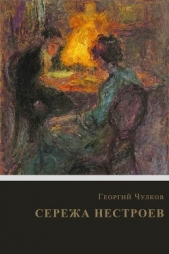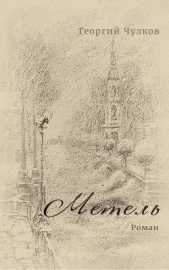Годы странствий

Годы странствий читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— В Москве был, Маныгин?
— Так точно, Ваше высокородие.
— Опустите руку, Маныгин, да расскажите толком, что там у вас в Москве делается.
— Так что революция, Ваше высокородие. В тот день, когда я уезжал, пришло известие из Петрограда, что господа министры арестованы.
Я смотрю на моего унтер-офицера и молчу. Он тоже смотрит на меня молча и медлит уйти. Этому Маныгину хочется, должно быть, сказать мне еще кое-что.
— Что? — говорю я. — Что, Маныгин?
Земляк мой вытягивается, отдает честь и говорит шепотом:
— Греха больше не будет…
Вот какие странные мысли бродили в голове моего унтера Маныгина. Он философ, оказывается, этот земляк.
Но мы с унтером Маныгиным не только философы: у нас много забот совсем не духовных. И все они как будто не ко времени. Но ничего не поделаешь. Прежде всего фураж. Мы, конечно, наших лучших лошадей уступили артиллерии, а слабосильных надо откормить.
А по нынешним временам не так легко добыть сена. С овсом дело наладилось, а относительно сена — беда. Это — во-первых. А во-вторых, немцы навезли немало баллонов с отравными газами, по-видимому, хотят нас выкурить, отбросить куда-нибудь подальше от озера. Слава Богу, комитет Союза щедро наделил нас противогазами, и у кого хорошие легкие, спокойно может ожидать газовой атаки. А вот у кого скверные легкие, как у меня, тому худо. Я, признаться, больше пяти минут не могу пробыть в противогазовой маске. Надо, впрочем, поупражняться, а без привычки как-то теряешь голову, когда наденешь на себя эту резиновую морду с болтающейся жестяною коробкою у рта. Особенно неприятно, когда запотеют очки и ничего не видишь, а чувствуешь себя связанным и беспомощным. Да, в газовой атаке есть что-то ужасное и для достоинства человека унизительное.
А смерть от газовой отравы — это, пожалуй, самое страшное, что довелось мне увидеть на войне. Какие у отравленных синие лица! И какой ужас в глазах! Они задыхаются, мечутся на койке, вскакивают и падают навзничь, зевая судорожно, как рыба на берегу.
Тех, кто умер, похоронили мы вчера в братской могиле. День был солнечный. Над нами кружился немецкий аэроплан, и все небо вокруг него было в белых пятнах от шрапнельных разрывов.
Молодой священник, который приехал к нам верхом на лошади, шел теперь впереди дровней с покойниками, широко шагая по глубокому снегу.
Какое было солнце! Больно было смотреть на белую равнину. Когда мы пришли к братскому кладбищу, там около большой ямы возились наши земляки. Двое стояли на дне могилы, раскладывая доски.
Слепительно блестел крест в руках священника. Санитары подымали, тяжело дыша, покойников и спускали их по доске в могилу.
— Не так кладешь, — сказал сердито рыжий санитар со шрамом на щеке. — Поверни его боком. К востоку покойники глядеть должны.
Повернули покойников лицом к востоку, закрыли досками и темным ельником. И священник, проваливаясь по колено в снег, подошел к краю могилы бросить горсть земли.
А у этих отравленных были жены, дети или невесты. И седая мать кого-нибудь из них сочиняет, быть может, сейчас сыну письмо, передавая десятки поклонов от всех родичей и свойственников ихней деревни.
Эти мужики умерли безропотно, не жалуясь на судьбу. И не дано им узнать того, что мы так доверчиво называем свободой здесь, на земле.
Свобода? Неужели в самом деле красные знамена алеют сегодня в Петрограде? Я иду в палатки, где настилают пол, потом в обоз, потом на соседнюю батарею, где у меня есть приятели, и опять к себе подписывать приказы и требования, а в голове у меня все одно и то же — эти два-три загадочных слова о событиях на улицах Петрограда.
Наступает ночь. Я выхожу из халупы, чтобы проверить дневальных. Потом ложусь на койку, не раздеваясь. Вот уже третью ночь я так сплю, прислушиваясь в полусне к полевому телефону, который висит у меня над ухом.
И вот опять тревожный гудок:
— Ту, ту, ту, ту…
Я считаю:
— Раз, два, три, четыре…
Это вызывают мой отряд.
— Кто говорит?
— Штаб дивизии. Телефонограмма. Спешно.
— Я слушаю.
«Начальника штаба Верховного главнокомандующего к главнокомандующим армиями фронтов».
«Почему у этого телефониста такой торжественный голос?» — думаю я.
«Ввиду обстоятельств подтверждаю… Незамедлительно… Манифест об отречении от престола государя императора…[894] Прочитать во всех ротах, эскадронах, сотнях, батареях и командах…»
У меня такое чувство, как будто я выпил залпом стакан пьяного вина. Голова моя слегка кружится.
«Признали мы за благо отречься от престола государства Российского…»
— Как? Еще раз! Повторите еще раз!
Мне казалось, что я читаю какую-то огромную книгу. Это — всемирная история. Шурша лета страница на страницу. Новая часть, а на левой стороне надпись: Конец.
Надо было подумать о том, как я завтра соберу команду, что я скажу ей, но я об этом не думал. Я думал почему-то о том, как пятнадцать лет тому назад, когда волосы мои еще не были седыми, как теперь, довелось мне ехать на паузке по Лене. На паузке были солдаты и мы, арестанты. На мачте трепался на солнце лоскут алого кумача. Это было наше знамя. Мы его везли с собой все эти тысячи верст, ревниво оберегая от посягательств тюремщиков. Каким жалким, каким бессильным казался этот красный лоскут среди беспредельности тогдашней России. И вот я все думаю об этом красном лоскуте. Теперь, пожалуй, его вынесут в Петрограде на Сенатскую площадь, и москвичи, пожалуй, украсят им свои ветхие кремлевские стены.
Я вышел из халупы. Небо безмерное раскинулось, как великолепный шатер, надо мною. Белые звезды сияли торжественно и дивно.
Старший по команде, Брусин, крепкий парень, с откровенными и ясными, как у ребенка, глазами, собрал команду, и я вышел к ней читать манифест… Признаюсь, было у меня желание заглянуть в сердца этих солдат. Как чувствует себя вот этот простоватый рязанец, толстогубый и светлорусый? Или этот сибиряк, вчера рассказавший мне как-то неожиданно, как будто без всякого повода о своей жене, о которой он тоскует «мало-мало»?
Нет, никто не знал из них, как и я сам не знал, что именно сегодня придется читать мне здесь, среди замерзших озер, в чужом краю эту бумагу о бесславном конце императорского правительства. Слушайте, солдаты. Слушайте, товарищи.
Я кончил читать и смотрю на команду. Все молчат. Я не забуду этой тишины. Сколько времени протекло в этом молчании? Минута, секунда или час?
И вдруг грянул гром. Что такое? Это солдаты кричали «ура».
Все кричали «ура», все эти рязанцы, смоляки и сибиряки. Только один старик молчал, я видел его сжатый сурово рот, черную бороду и нахмуренные брови.
«Надо будет поговорить с этим стариком», — думаю я.
Какой это был странный день. Санитары носили в палатки раненых, которых привезли к нам из окопов; приехали из В. наши фуражировщики; из краснокрестного госпиталя приходил ко мне старший врач; потом приехали из пятой батареи офицеры и, как всегда, подвязав поводья, отпустили лошадей домой без всадников, и лошади помчались галопом мимо сигнальных шестов с подвязанными пучками соломы: все было по-прежнему, но лица у людей как будто изменились.
Письма[895]
Письма В. Я. Брюсова
I
Ноябрь 1902
Дорогой Георгий Иванович. Спасибо, что Вы вспомнили именно обо мне. Ваше письмо пришло ко мне лишь на этой неделе, пропутешествовав больше месяца. Вы не будете очень гневаться, что я промедлил несколько дней исполнить Ваши поручения. Тем более, что, вероятно, Вы получили уже книги, переданные мною для Вас (раньше В. письма) Кларе Борисовне Р.,[896] так что первый Ваш читательский голод утолен. Посылаю Вам для начала последнюю книгу Верхарна[897] и Монну Ванну[898] новейшее издание Скорпиона.[899] Это перваяпосылка, за которою последуют дальнейшие. Думаю, что Вам не интересно было бы получить всегоВерхарна. Он написал чрезвычайно много, и у него немало скучного. Еще две его книжки я выписал для Вас, они придут через две недели. Доставлю Вам любопытный роман Пшибышевского «Homo sapiens»[900] если только его пропустит цензура. Он уже напечатан, но цензура его задержала. Быть может, удастся нам его провести.