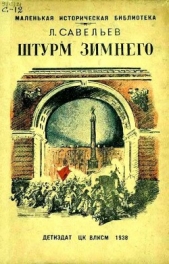Близкие и далекие

Близкие и далекие читать книгу онлайн
Сборник составляют написанные Константином Паустовским в разные годы очерки, статьи, главы из книг о знаменитых писателях, таких как Эдгар По, Оскар Уайльд, Иван Бунин, Александр Блок, Алексей Толстой и др. Составитель сборника Л. Левицкий.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Куприн любил и превосходно знал русский язык, но никогда не делал из него раз навсегда установленного литературного канона.
Временами его язык приближается к разговорному, к языку устного рассказчика; и в этом отношении он несколько родствен языку Толстого. Вместе с тем Куприн всегда восхищался языком Чехова — «благоуханным, тонким и солнечным». Эта солнечность языка, его свет, его сила, его свежие краски были присущи и купринскому языку.
Куприн с удивительным чувством меры и умением пользовался родственными русскому языками (в частности, украинским) и местными диалектами. Особенно хороши его полесские рассказы, где диалект полещуков придает локальную прелесть всему произведению.
Помимо этого, Куприн хорошо знал жаргоны русского языка, вплоть до «блатного» языка и жаргона проституток, до речи обывателя и полуинтеллигента. Это качество придает его рассказам острую типичность. Куприн свободно владел способностью характеристики не только отдельных людей, но и больших прослоек русского общества при помощи их языковых особенностей, при помощи диалога.
Примеров можно привести много, но достаточно хотя бы двух — манеры говорить инженера Боброва из «Молоха» и студента из рассказа «Река жизни».
Ничто так не разоблачает внутреннюю несостоятельность этих интеллигентов, как их язык — приподнятый, временами даже ходульный, книжный, многословный, «прекраснодушный», но лишенный твердости и силы.
По размаху своего таланта, по своему живому языку Куприн окончил не только «литературную консерваторию», но и несколько литературных академий.
Еще будучи офицером, Куприн ездил в Петербург держать экзамен в Академию генерального штаба. Экзамена он не выдержал, но поездка помогла ему установить связь с журналом «Русское богатство» и несколькими писателями.
С тех пор, несмотря на беспрерывные скитания иногда по самым забытым и глухим углам страны, Куприн не прерывал эти связи. Он познакомился с Чеховым, часто бывал у него в Ялте на Аутке и сдружился там с Буниным, Горьким, Федоровым, писателем-доктором Елпатьевским и со всем чеховским окружением.
Среди писателей он выделялся своей непосредственностью, простотой и образом жизни, далеким от обычного писательского существования. Дружа с писателями, Куприн никогда не изменял своим старым друзьям из рабочих, рыбаков, крестьян и матросов, из простонародья и ради общения с ними легко мог поступиться обществом литераторов.
В нем не было тщеславия. Он никогда не говорил о себе, как о писателе, — возможно, что он просто забывал об этом. Но он никогда не упускал случая помочь начинающему писателю, особенно если он происходил из милой его сердцу простонародной среды.
Писатель Н. Никандров рассказывал мне, как Куприн упорно тащил и жестоко заставлял его, Никандрова, работать, чтобы «сколотить из него настоящего писателя».
История эта вообще интересна для характеристики того времени.
В 1905 году Никандров, бывший черноморский рыбак, сидел в севастопольской тюрьме за принадлежность к организации эсеров.
Севастопольская тюрьма была расположена вблизи Базарной площади, в месте довольно оживленном. Было лето. Стояла жара, и потому окна в камерах были открыты.
Никандрову — человеку необыкновенно жизнерадостному и большому говоруну — было скучно сидеть без дела, и он придумывал себе развлечения. Стоя у окна, он следил за пешеходами, шедшими на базар, главным образом за крикливыми южными хозяйками. Как только хозяйки, встретившись, останавливались и заводили разговор, Никандров начинал вслух сочинять этот разговор — смехотворный и необыкновенно сочный. Никандров хорошо знал быт и нравы южан.
Вся тюрьма слушала Никандрова у открытых окон и награждала его рассказы хохотом и аплодисментами.
Однажды Никандров получил через уголовного, прибиравшего камеры, записку. В ней было сказано, что если Никандров набросает на бумаге свои устные рассказы и передаст их автору этой записки, то рассказы можно будет напечатать в севастопольской газете и даже получить за них гонорар. Под запиской стояла незнакомая Никандрову подпись — Гриневский. Это был А. С. Грин.
Никандров набросал свои озорные рассказы, переслал их Грину, и вскоре рассказы действительно были напечатаны.
После освобождения из тюрьмы Никандров зашел в редакцию севастопольской газеты. Там на его имя лежало письмо из Балаклавы от Куприна. Куприн с восхищением отзывался о рассказах Никандрова и приглашал неизвестного автора к себе.
Никандров поехал к Куприну в Балаклаву, они быстро сдружились, и Куприн просто заставлял Никандрова писать и долго и терпеливо учил его основам писательского мастерства.
В Балаклаве Куприн написал один из самых обаятельных своих рассказов — «Листригоны».
Я уже говорил о том, что почти все вещи Куприна автобиографичны. Все мечтатели и все влюбленные в жизнь в его рассказах — это он сам, Куприн, цельный и непосредственный человек, не знающий ни рисовки, ни позы, ни резонерства. Поэтому его неудержимо тянуло к таким же простым и ярким людям, каким он был сам.
Таковы были балаклавские греки — «листригоны».
Вообще «Листригоны» занимают по своей поэтичности, свободе повествования и вместе с тем по живописной конкретности людей, обстановки и пейзажа особое место в творчестве Куприна.
«Листригоны» — удивительная по простоте и прелести поэма русской прозы. Каждая черта, каждая деталь вызывают улыбку — настолько все ощутимо, верно и просто.
Двумя-тремя лаконичными фразами Куприн дает тонкое, эмоциональное, если можно так выразиться, представление о Балаклаве.
Вот, например, одна из таких фраз:
«Нигде во всей России, — а я порядочно ее изъездил по всем направлениям, — нигде я не слушал такой глубокой, полной, совершенной тишины, как в Балаклаве. Выходишь на балкон — и весь поглощаешься мраком и молчанием. Черное небо, черная вода в заливе, черные горы. Вода так густа, так тяжела и так спокойна, что звезды отражаются в ней, не рябясь и не мигая».
Куприн недаром жил в Балаклаве. Нет, по-моему, лучшего места (конечно, зимой, когда Балаклава пустее) для писательской работы.
Что-то гриновское есть в этом городке, в его греческих домах с пустыми нишами для статуй, в тончайших голубых сетях, разостланных прямо на набережной, в его уютных лесенках, в закоулках и переходах, в его тишине, в близости открытого моря. Гул шторма слышен рядом, за мысом, тогда как в Балаклавской бухте вода, налитая вровень со старыми набережными, стоит неподвижно и ветер даже не шелестит в сухой листве акаций.
Но самыми поразительными, действительно магическими и необыкновенными являются балаклавские ночи, когда свет единственного в городе фонаря тонет во мраке и так хорошо думать, сидя на балконе в кромешной темноте, и чувствовать беспредельный покой и какую-то, я бы сказал, тишину сердца. В этой тишине должны рождаться удивительные мысли и такие удивительные книги, как «Листригоны».
У Куприна есть цикл рассказов: «Лесная глушь», «Болото», «На глухарей». Их объединяет место действия — леса, но по своему содержанию они очень различны.
Благоговейная и спокойная любовь Куприна к природе очень заразительна, и в этом тоже чувствуется сила его таланта.
О природе, о лесах, о какой-нибудь хибарке смолокуров Полесья Куприн рассказывает так, что тоска начинает грызть сердце, — тоска оттого, что ты сейчас не там, не в этих местах, тоска от страстного желания немедленно увидеть их во всей девственной суровости и красоте.
Одно время Куприн жил в Мещерских лесах у мужа сестры, лесничего в Криушах. Действие рассказа «Болото» происходит в Мещере.
Память о зяте Куприна и о нем самом еще жива среди старых мещерских лесников и объездчиков. Они даже показывают место, где стояла сторожка лесника Степана, описанного Куприным в «Болоте», — безответного, тихого человека, умершего, как и вся его семья, от малярии.