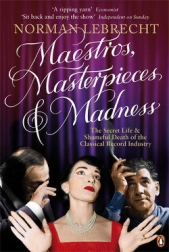Маэстро миф

Маэстро миф читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Америка обратилась против него, и он решил подать в отставку. Утрата иллюзий, говорит Майкл Тилсон Томас, ставший в то время конфидентом Бернстайна, «началась, когда убили Джона Кеннеди. За этой смертью последовали убийства Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди, Вьетнам и усиление в Америке правых идейных течений». Оптимизм поколения 1945 года потерпел прискорбное поражение.
Причины для того, чтобы покинуть Нью-Йоркский филармонический, у Бернстайна имелись самые разные. Он не мог смириться с увольнением престарелых музыкантов и ощущал себя человеком, лишившимся жизненной цели. «Мне некого защищать и отстаивать, — жаловался он. — Я вспоминаю о времени Кусевицкого, о том, как он с гордостью исполнял одну за другой симфонии Коупленда, сочинения Роя Харриса, Билла Шумена, Прокофьева, Стравинского! Все эти великолепные вещи были в его распоряжении. То время закончилось. Приходя в Филармонический, я ожидал чего-то похожего, а ничего по-настоящему не произошло, и это стало для меня ужасным разочарованием. Мне нечего и некого защищать — у меня нет ни движения, ни группы композиторов, ни школы».
Он забыл упомянуть о разочаровании еще более значительном — разочаровании в себе. Дирижируя Нью-Йоркским филармоническим, Бернстайн, как композитор, остановился в росте. В 1965-м он взял годовой отпуск, чтобы заняться сочинительством, и вернулся из него с «Чичестерскими псалмами», самым наивным и наиболее часто исполняемым из его хоровых произведений. Бернстайн счел себя обязанным защитить эту простую гармоническую идиому в приторном стихотворении, опубликованным им в «Нью-Йорк Таймс». Шагать в ногу с авангардом Бернстайн не мог и в отчаянии обратился к двенадцатитональному ладу — просто чтобы показать, что и он может писать такую музыку не хуже, чем любой из так называемых модернистов. Во всех его вещах с очевидностью проступают сомнения в себе. Вечно испытывая разочарование, он с тоской говорил о своем желании отдать все время сочинению музыки, которая пережила бы его, симфоний, подобных малеровским, способных «объять весь мир» и изменить склад его мышления.
Еще одним поводом для расстройства было отсутствие признания на континенте Малера — в Европе. Бернстайну очень хотелось завоевать Старый свет. Ради этого он и прервал в 1969-м, в годовщину смерти Малера, самое долгое музыкальное директорство из значившихся в анналах Нью-Йоркского филармонического. Оркестр подарил ему на прощание моторную яхту, на которой он ни разу никуда не сплавал. Он так и продолжал жить на Пятой авеню, время от времени вставая за дирижерский пульт. Когда еще двадцать лет спустя оркестр снова приступил к поискам музыкального директора, дверь Бернстайна была первой, в которую он постучался.
В преемники Бернстайна Нью-Йоркский филармонический выбрал его противоположность. Не было на свете музыкантов столь же не схожих, как чувственный экстраверт Бернстайн и аскетичный Пьер Булез, и сочинения и личность которого кажутся, в сравнении, суровыми и однотонными. Один был громогласным, другой тихим; один требовательным, другой лихорадочным; один дирижировал всем телом, другой кончиками пальцев; Бернстайн наслаждался роскошными мелодиями, Булез презирал их как проявления «ностальгии». Довольно лишь взглянуть на их партитуры, чтобы почувствовать разницу. Бернстайн исписывал крупным почерком всю страницу, что-то комментируя, вставляя и вычеркивая; Булез писал между нотоносцами — крохотным, старательным почерком.
Общим в них было только одно — стремление сочинять, дирижировать и учить, неотразимое обаяние личности и устрашающего интеллекта, способного объять все основания западной мысли. Оба могли позволить себе пускаться в захватывающие слушателя рассуждения о Шопенгауэре и Кандинском, Платоне и Эдгаре Аллане По. Бернстайн проявлял склонность сыпать, рассуждая о формирующих влияниях, именами и названиями, ничего ослепленной аудитории не говорящими. Булез, по словам преклоняющегося перед ним ассистента, «знал о живописи больше, чем живописец, а о литературе больше, чем писатель». Оба были людьми в культурном отношении всеядными, совершавшими при создании самых амбициозных своих произведений набеги на иные сферы деятельности, Булеза пропитывала современная живопись и поэзия, Бернстайна — философия и поп-музыка.
Освобожденный от жарких объятий общительного Бернстайна Нью-Йорк изготовился к встрече с замкнутым, лысеющим Булезом, который ни с кем не целовался и исхитрялся непостижимым образом держаться особняком. «Ледяной дирижер» — предупреждала «Нью-Йорк Таймс». Более теплую сторону его личности наблюдали лишь оркестровые музыканты, чье мастерство он негромко хвалил. Наиболее общительным Булез выглядел в перерывах между репетициями, когда обменивался с музыкантами слухами над пластиковыми чашками с кофе. Он был хорошим рассказчиком, однако ему сильно не хватало юмора, и смеющимся от всей души его случалось видеть не часто. Женат Булез никогда не был. У него имелся компаньон-австриец, Ганс Мессмер, занимавший отдельную квартиру в одном с Булезом квартале и иногда представлявшийся его камердинером.
На подиуме Булез славился слухом, способным различить одну неверную интонацию в аккорде, взятом сотней инструментов. Ригористом он был не меньшим, чем Джордж Сэлл, который и рекомендовал его Филармоническому, тем не менее Отто Клемперер называл Булеза «единственным человеком его поколения, который является и выдающимся дирижером, и музыкантом». Булез дирижировал с безжалостной точностью, под его управлением игра Филармонического достигла завораживающей ясности. «Для шедевра важно, чтобы из него убрали весь мусор» — любил говорить он. Булез был идеальным проповедником модернизма, с ним оркестр обрел сноровку, которая позволяла передавать мерцающее звучание Дебюсси и озадачивающую расплывчатость Вареза, — и даже полюбил это занятие. Буйная импульсивность бернстайновских концертов, на которых исполнялась музыка Стравинского, сменилась дисциплинированной демонстрацией Булезом ритмической изобретательности современных мастеров.
Поклонники Бернстайна не приняли Булеза, как и многие из пожилых держателей абонементов. На их место пришли длинноволосые личности из Вудстока, которые стекались на построенные Булезом на манер викторин «концерты для бедных» в Гринуич-Уиллидж и пытались выяснить у него в чем состоит смысл жизни. Он поговаривал о том, чтобы перестроить программы Филармонического на манер легендарного манхэттенского Музея современного искусства (МОМА), в котором «Герника» Пикассо оказывается начальной, а не конечной, как мы привыкли считать, точкой в исследовании пластического искусства. «Мы изменили аудиторию, — радовался Булез. — Мне хотелось, чтобы людей интересовали концерты, а не только общественная жизнь».
Он отказывался исполнять Чайковского, отвергал Брамса как музыканта «буржуазного и самодовольного», осмеивал Прокофьева, говоря о его «весьма незначительном даровании», и наложил запрет на Бриттена и Шостаковича, считая их непростительно «консервативными». Любой композитор, не ощущавший «необходимости» двенадцатитоновой системы Шёнберга, был для него просто «поверхностным». На взгляд Булеза, основное течение музыки шло от Баха через Бетховена к Вагнеру и Малеру, затем к Шёнбергу с Веберном и, наконец, к нему самому. Однако от использования своего положения для исполнения собственной музыки он воздерживался, показав за шесть нью-йоркских сезонов только два своих произведения и одновременно сделав несколько уступок композиторам местным.
«В Америке нет никого, кто превосходил бы Ганса Вернера Хенце, — провозгласил он, — а это не самый высокий уровень. Композиторов масштаба Штокхаузена здесь просто не существует». Заявления столь высокомерные — впоследствии видоизмененные в угоду высокоумной музыке Эллиотта Картера, — противоречили глубоко укоренившейся скромности, которая выражалась его беззаветным служением идеалу. Булез никогда не стремился обратиться в звезду первой величины. Он стал музыкальным директором не в поисках славы, но ради того, чтобы способствовать революции. «В политике это называют „внедрением в чужую партию“, — объяснял он. — Нельзя вечно сидеть в сторонке и тявкать на собачий манер. Вот я и занял столь ответственный пост, стремясь переменить не весь мир, но хотя бы часть его». Булез называл это «изменением порогового значения одного периода».