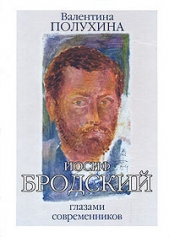Иосиф Бродский

Иосиф Бродский читать книгу онлайн
Жизнь выдающегося поэта, лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского (1940–1996) полна драматических поворотов. На его долю выпали годы бедности и непризнания, ссылка, эмиграция и громкая всемирная слава. При этом он сам, «русский поэт и американский гражданин», всегда считал главным для себя творчество, стоящее вне государственных границ. Это неразрывное единство жизни и творчества отражено в биографии Бродского, написанной его давним знакомым, известным поэтом и филологом Львом Лосевым. Подробно освещая жизненный путь своего героя, автор уделяет не меньшее внимание анализу его произведений, влиянию на него других поэтов и литературных школ, его мировоззрению и политическим взглядам. В изложении Лосева, свободном от полемических перекосов и сплетен, Бродский предстает наследником великой русской поэзии, которому удалось «привить классическую розу к советскому дичку». Книга, выходящая в год десятилетия смерти Бродского, – прекрасный подарок поклонникам поэта и всем, кто интересуется русской словесностью XX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Если в англоязычной поэзии, у того же Одена, обсценная лексика почти полностью утратила шокирующее свойство уже в тридцатые годы, то в русской из больших поэтов только Маяковский несколько раз непринужденно использовал в стихах непечатные выражения («Во весь голос»), тогда как Пастернак позволил себе лишь осторожное «Я и непечатным / Словом не побрезговал бы...» («Елене»). Дело тут не в конформизме русских поэтов и не только в их собственном воспитании, но и в том, что они сознательно или подсознательно учитывали своего читателя, для которого одно прежде не встречавшееся в печати слово будет застить весь текст (Жюль Ренар писал в дневнике: «Если в фразе есть слово „задница“, публика, как бы она ни была изыскана, услышит только это слово»). В свое время авторы пасквиля в «Вечернем Ленинграде» облыжно обвиняли Бродского среди прочего в порнографии («пописывает стишки, перемежая тарабарщину нытьем, пессимизмом, порнографией»). На самом деле у раннего Бродского любовная тематика трактовалась весьма целомудренно. «Порнографией» Лернер и другие, видимо, посчитали несколько случаев употребления обсценной лексики персонажами поэмы «Шествие» и, может быть, даже такие слова, как «сперма» и «презерватив», в той же поэме. Но вот о зрелом Бродском Э. В. Лимонов пишет: «Бродский не знает, как вести себя в моменты интимности – пытаясь быть свободным и мужественным – он вдруг грязно ругается. В устах почти рафинированного интеллигента, каковым Бродский хочет быть (и, очевидно, на 75 процентов является), ругательства, попытки ввести выражения низкого штиля типа „ставил раком“, звучат пошло и вульгарно. Бог, которого Бродский так часто поминает, не дал ему дара любовной лирики, он груб, когда пытается быть интимен» [467]. Так же, как двадцатью годами раньше ленинградские гонители Бродского, Лимонов шокирован не сюжетами, а вульгаризмами. Старые и новые обвинения вполне заслуживают быть принятыми prima facie,несмотря на полицейскую в первом случае и литературно-политическую во втором подоплеку. Речевая этика русской предреволюционной мещанской среды строго табуировала, загоняла в подполье как нецензурную брань, так и всю сексуальную лексику. Психология этих запретов состояла в желании людей, ступивших на одну социальную ступеньку выше «грубого» простонародья, подчеркнуть свою принадлежность к иному классу. Этика советского среднего класса сталинской эпохи по тем же причинам была насквозь мещанской и глубоко лицемерной: ругаться матом можно, но «не при дамах»; можно наслаждаться сальными анекдотами и рассказывать друзьям о своих сексуальных успехах в самой вульгарной форме, но в «культурной» сфере – в образовании, журналистике, литературе, искусстве – сексуальная тематика и лексика не имеют права на существование. Причем, как показывает тирада Лимонова, табу на слово сильнее, чем табу на тему. Лимонов приобрел литературную известность именно как писатель, откровенно и подробно описывающий сексуальные практики, но у Бродского его возмущает употребление грубых речений. Этот в общем-то не определяющий поэтику Бродского, во всяком случае не центральный для нее момент служит тем не менее определителем читательской способности воспринимать поэтический текст, в котором слово функционирует не так, как в повседневной речи. Это прекрасно понимали издатели первого, неавторизованного сборника Бродского. Б. А. Филиппов в связи с подготовкой нью-йоркского издания «Стихотворений и поэм» писал своему соредактору профессору Струве: «Нет, пожалуй, не стоит в „Шествии“ бояться всех этих слов („говно“, „мудак“ и пр.). Собак вешать будут все равно, а вместе с тем эти грубые слова СОВСЕМ НЕ ВЫГЛЯДЯТ ГРУБЫМИ В КОНТЕКСТЕ ПОЭМЫ (выделено заглавными буквами у автора письма. – Л. Л.): они даже – по контрасту – подчеркивают высокий патетический строй поэмы» [468].
В записных книжках Ю. Н. Тынянова есть рассуждение о мещанском сексе, замечательное и само по себе тем, что оно на несколько десятков лет опережает один из центральных тезисов феминизма конца двадцатого века о превращении женщины в сексуальный объект, «вещь» [469]. «Любовь к беспространственности... <...> наслаждаться частью женщины, а не женщиной» [470], – пишет Тынянов. Здесь формулируются оба основных мотива той же темы у Бродского. В чисто сексуальных отношениях функциональна только часть женщины-вещи, женщина в целом не представляет интереса и в тексте отсутствует: «Бессонница. Часть женщины......Часть женщины в помаде...» («Литовский дивертисмент», КПЭ),«...зачем вся дева, раз есть колено...» («Я всегда твердил, что судьба – игра...», КПЭ),«Дева тешит до известного предела—/ дальше локтя не пойдешь или колена...» («Письма римскому другу», ЧP),«В проем оконный вписано бедро / красавицы...» («Мексиканский дивертисмент», ЧP) [471] .С этим же связан и мотив секса как уничтожения пространства, что наиболее ярко выражено в стихотворении «Конец прекрасной эпохи» (КПЭ):
«Раздвинутый мир» сначала ограничивается пределами раздвинутых ног, а затем вовсе сходит на нет, как в конце перспективы, в «части женщины». (Нельзя не отметить мастерское употребление анжамбемана, ритмически выделяющего повтор слова «тут» в финале строфы и таким образом воспроизводящего механический ритм coitus'a.)Безвыходный тупик сексуальности и космическая открытость эроса («Так творятся миры...» в «Я был только тем, чего...», У) —это противопоставление четко прослеживается в лирике Бродского [472].
«Урания»
Проходит десять лет после выхода «Конца прекрасной эпохи» и «Части речи», прежде чем он издает следующий сборник стихов – «Урания». Урания в греческой мифологии не только муза астрономии, есть еще и Афродита Урания («Небесная»), одна из двух Афродит. Вторая – Афродита Пандемос, то есть «всенародная» или, как переводит А. Ф. Лосев, «пошлая». Книга стихов в английских переводах, вышедшая в 1988 году, в значительной степени совпадает с русской «Уранией» по составу, но название немного изменено. По-английски книга называется не «Urania», а «То Urania», то есть не «Урания», а «Урании» или «К Урании», что проясняет мысль Бродского. Даря нам английскую «Уранию», Бродский написал на титуле: «То Nina and Leo – My inner bio» («Нине и Лео – моя внутренняя биография»). К Урании – это вектор внутренней биографии Бродского.
Объясняя название сборника, Бродский в 1992 году говорил интервьюеру: «[Данте], мне кажется, в Чистилище... <...>взывает к Урании за помощью – помочь переложить в стихи то, что трудно поддается словесному выражению. <...> Я хотел назвать книгу «Марш к Урании», по аналогии с оденовским «Марш к Клио»...» (Brodsky 1992).
Название сборника также связано со стихотворением особо любимого Бродским Баратынского «Последний поэт» (1835), но, как это нередко бывает со скрытой цитацией у Бродского, он цитирует полемично. У Баратынского поэт, поющий «благодать страстей», противопоставлен «поклонникам Урании холодной». Бродский, напротив, утверждает в качестве своей музы «холодную» музу астрономии, географии и, в расширительном толковании, музу объективного, независимого от эмоциональности творчества. «Урания» – холодная книга в самом прямом смысле слова. Из семидесяти трех стихотворений в двадцати четырех, то есть почти трети, говорится про холод, зиму и осень и только в десяти про весну и лето. В «Урании» есть такие полные жизнелюбия вещи, как «Пьяцца Маттеи», «Римские элегии», «Горение», но преобладает мотив резиньяции, стремление к отрешенному, бесстрастному тону. Это становится особенно видно из сравнения по тематическому сходству стихов «Урании» с ранними вещами. Политический пафос таких стихов, как «Письмо генералу Z.» (КПЭ),«1972 год» (ЧP)сменяется мрачным сарказмом «Стихов о зимней кампании 1980 года» и «Пятой годовщины». Страстное богоискательство («Разговор с небожителем», «Натюрморт», КПЭ) —ироническим агностицизмом («Посвящается стулу»). В «Строфах» 1968 года («На прощанье ни звука...», ОВП)о разлуке с любимой говорилось: «Так посмертная мука / и при жизни саднит», – а в «Строфах» 1978 года («Наподобье стакана...»):