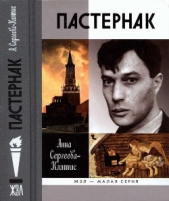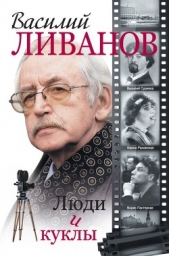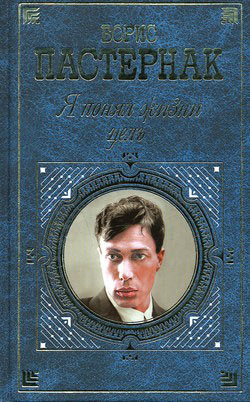Годы с Пастернаком и без него

Годы с Пастернаком и без него читать книгу онлайн
Свою книгу «Годы с Борисом Пастернаком» Ольга Ивинская завершает словами: «Любимый мой! Вот я кончаю работу, завещанную тобой. Прости меня, что написала ТАК; я не могла и никогда не смогла бы написать на уровне, которого ты достоин… Большая часть прожитой сознательной жизни была посвящена тебе, как будет посвящен и ее остаток…»
В этой книге впервые объединены мемуары О. Ивинской (в сокращенном виде) и ее дочери И. Емельяновой о Борисе Пастернаке. В книгу также вошли воспоминания Ирины Емельяновой об Ариадне Эфрон, о Варламе Шаламове. Впервые публикуются эссе «Парижские этюды» И. Емельяновой и фрагменты из ее «Записных книжек».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Контракты, контракты… Они затопили, отравили, заболотили нашу такую кратковременную передышку! Они лезли из всех карманов, портфелей, многолистные, с копиями, на трех языках… Фельтринелли враждовал с Д’Анджело, Ж. де Пруайяр с Фельтринелли. Каждый посылал своих эмиссаров, требовал внесения своих поправок, обвинял конкурента… О, на нас тогда здорово пахнуло деловым Западом — пресловутой конкуренцией, сутяжничеством, «бумажководством», — как мило шутил Гейнц Шеве. Жутко становилось и… скучно. Ведь вся эта грызня где-то там для нас была абстракцией, фикцией. «Подписываю, но чтобы в последний раз!» — умолял Б.Л. и подмахивал, не читая «поправок», «дополнений к пункту В» и т. п.
А бумаги росли, копились, подшивались в папки в прохладных кабинетах Лубянки…
Так вот, 24 октября, вызванная Джузеппе, я замерзала в пустынном, продуваемом всеми ветрами скверике (сколько фотографий нащелкал с меня в это утро наш КГБ! Как со Штирлица!), пока не увидела, как издалека движется знакомая фигура в каком-то безрадостном берете с огромным предметом, типа саквояжа, в руке. Выяснилось, что это пишущая машинка «Торпедо», которую нам посылает Серджио (как дорогостоящий подарок также скоро оказавшаяся под судом). На унылом, прыщавом лице Джузеппе — это был пухлый итальянец с кувшинообразной физиономией и тоскливыми глазами, похожий на Альберто Сорди, — была растерянность и вместе с тем какая-то необычная торжественность. Он вручил мне машинку и спросил, думает ли Б.Л. ехать в Стокгольм.
— Как! Почему в Стокгольм?
— Но ведь он теперь лауреат. Было уже заседание академии.
Вот оно! Я страшно перепугалась. Что же теперь делать?
— Ничего, — успокаивал меня Гарритано. — Может быть, все обойдется.
Я дотащила машинку до такси. Весь этот недолгий путь по улице Горького, потом вдоль бульваров домой я чувствовала, как с каждой минутой растет мое беспокойство. Ясно было, что на присуждение Нобелевской премии наша власть так или иначе откликнется. Все говорило мне, что будет именно «иначе», — но как? Ведь всего пять лет отделяло нас от смерти Сталина, ведь робкая наша «оттепель» уже давно и решительно повернула к зиме, ведь уже почти год у матери лежало разгромное письмо «Нового мира» — приговор тому самому роману, за который Б.Л. сегодня увенчан лаврами.
Б.Л. и мама были в Переделкине и, как я думала, еще ничего не знали. Не успела я открыть дверь нашей квартиры, как раздался звонок по телефону. Это был Б.Л.
— Ах, ты уже знаешь, — сказал он разочарованно. — Я сейчас звонил бабушке, подошел Сергей Степанович и даже не поздравил меня почему-то. Да, уже началось, началось! — В ответ на мой безмолвный вопрос: — Да, приходил Федин, предлагал отказаться. Пришел, словно меня уличили в преступлении, и это вдруг стало всем известно. Только Ивановы, Тамара Владимировна, ах, какая умница! Расцеловала меня. Нет, с Фединым я не стал говорить…
Внезапно я догадалась, что была, по-видимому, одной из первых, кому он сообщал о своем решении принять премию, о взятом «курсе», что мама, наверное, находилась в полной растерянности, а паническое настроение окружающих действовало на него болезненно. За секунду все это пронеслось у меня в мозгу. Я отозвалась преувеличенно радостно и ни слова не сказала о своих страхах. Б.Л. был благодарен: «Да? Правда, ты так думаешь? Ах, умница, умница…»
В эту же ночь, в три часа, мне позвонил из общежития нашего института мой знакомый Юра Панкратов, тогда очень преданный Б.Л. Он рассказал, что наше заведение бурлит, как растревоженный улей, что готовят демонстрацию с плакатами, требующими исключения Б.Л. из Союза писателей и высылки из СССР, что в субботу (а это была пятница) состоится заседание правления московской секции, где будет «вынесено постановление» и т. п. Мы с Юрой решили ехать завтра в Переделкино.
Утром и «Правда», и «Литературная газета» принесли первые «лавры»: «Провокационная вылазка международной реакции», «Иуда», «Гнилая наживка на крючке антисоветской пропаганды», «Народное презрение» и т. д. Пробежав заголовки, в который уже раз я обрадовалась, что Б.Л. не читает газет. Он не смог бы остаться равнодушным к оскорблениям. Стыдно вспомнить, но тогда мне было досадно, что Б.Л. так уязвим, так беззащитен, что я не могу в нем найти того идеала «железной стойкости», который импонировал моим двадцати годам. Он был «всеми побежден», зависим от мелочей: от приветливости знакомой почтальонши, от выражения молчаливой преданности со стороны домработницы Татьяны Матвеевны, от того, что поселковый истопник здоровается с ним «так же, как раньше». Помню, с какой радостью, словно о чем-то важном, он рассказывал, что встретил по дороге переделкинского милиционера, которого знал много лет, и «сам» милиционер поздоровался, «словно ничего не произошло». Каким-то чудом уживалась эта бесконечная уязвимость со способностью быстро забывать неприятное и тут же с головой нырять в работу.
В субботу 26 октября в обществе моих сокурсников Юры Панкратова и Вани Хабарова, таких испуганных, негодующих (страшно подумать, что одного уже нет в живых и как изменился другой), я поехала в Переделкино. Идем через знакомый мостик, потом через огороды, мимо колодца и видим в окошке у матери красный тревожный свет. И переделкинские сумерки, и темнеющий самаринский парк, и высокие крыши писательских дач источают какое-то беспокойство.
Мать, не подготовившаяся — ни к нашему приезду, ни к новой беде, уже валившей в ворота, — встречает нас на крылечке. В комнатушке Б.Л., тоже какой-то другой, выбитый из колеи. Мы сообщаем, что, видимо, дело приняло дурной оборот — власти решили начать охоту за ведьмами, вышли ужасные газеты, и на понедельник назначено расширенное заседание секретариата СП, на котором должен присутствовать Б.Л., и в зависимости от его поведения будут что-то решать. Б.Л. встревожен, я чувствую, как ему хочется, чтобы его миновала чаша сия, чтобы ничего этого не было и чтобы все шло своим чередом — работа, прогулки, письма, посещения кузьмичевского домика.
Он был в обычном своем костюме, который мы очень любили — в кепке, резиновых сапогах и плаще «Дружба», — этот костюм был как бы символом стабильности, той самой «сидячей жизни», о которой Б.Л. грустил и в более молодые годы («пускай пожизненность задачи, врастающей в заветы дней, зовется жизнию сидячей, — и по такой грущу по ней») и к которой в последние годы был так мучительно привязан, ею связан! В те беспокойные дни, возвращаясь из Москвы, куда Б.Л. считал своим долгом ездить в парадном виде, он с нетерпением переодевался в «мирные» одежды — в этом плаще и кепке и снял его какой-то шведский корреспондент у мостика: руку он прижимает к груди, что обыграно подписью — цитатой из нашего «общего» письма Хрущеву: «Положа руку на сердце, я кое-что сделал для советской литературы».
Но это все уже потом. А тогда вечером, в субботу 26 октября 1958 года, мы провожаем его домой, на «большую дачу». Доходим до будки трансформатора, от которого налево идет асфальтированная дорога к дачам Федина, Андроникова, Иванова и — Пастернака. Обычно именно здесь мы оставляли Б.Л., дальше он шел один. Но сегодня он провожает нас троих почти до станции — до моста около кладбища. Прощаемся. Ужасное чувство тоски и беспокойства, усугубленное его взволнованностью. Он благодарит ребят за приезд, словно это какой-то из ряда вон выходящий мужественный поступок — кто знал тогда, что будет? И ведь предчувствия нас не обманули, кампания проводилась в сталинских традициях, за исключением развязки. Не помню, по какому поводу, прощаясь, Юра пробормотал стихи:
В те дни мы часто обращались к его стихам. Они помогали, давали возможность посмотреть на «околонобелевскую» суету с птичьего полета, придавали происходящему другой масштаб. И это не было ни натяжкой, ни выспренностью. Вот и сейчас, около кладбища, он стал внимательно вслушиваться, как будто не он это написал, глаза наполнились слезами, вытащил клетчатый платок, засморкался… И мы расстались.