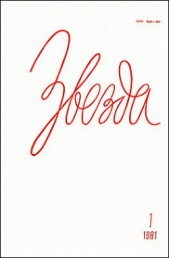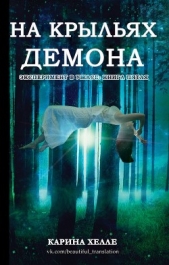Плен в своём Отечестве
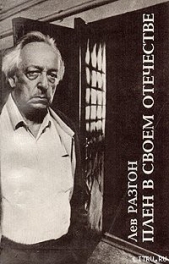
Плен в своём Отечестве читать книгу онлайн
Лев Эммануилович Разгон (1908-1999) – писатель, публицист, литературный критик, многолетний узник сталинских лагерей. Имя Льва Разгона стало известно стране, когда увидела свет его книга «Непридуманное» – одна из вершин лагерной мемуаристики. В последние десятилетия своей жизни Лев Разгон много времени и сил отдавал общественной работе – был членом Комиссии по помилованию при Президенте РФ, стоял у истоков создания Общества «Мемориал» и, несмотря на преклонный возраст, самым активным образом участвовал в его работе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Сначала какие-то пустяки. Женщины – партийные работники, а красят губы, носят кольца и сережки в ушах…
Этот длинный, случайно возникший разговор вдруг всколыхнул во мне воспоминание об этом маленьком, совсем коротком эпизоде моей жизни, когда в провинциальном городе мы с женой пробовали сколотить какую ни на есть, а жизнь… Да, поразили меня партийные дамы с крашеными губами и стекляшками в ушах – Рика мне говорила, что не стекляшки это, а бриллианты… Поразило, что старый и всеми уважаемый коммунист глазом не моргнул – предложил мне крупную литературную работу, а потом, назвав мне очень крупный по тем временам гонорар, спросил:
– Вас устраивает размер гонорара?
– О да, безусловно! Очень вам благодарен.
– В договоре будет указан гонорар вдвое больше этого. И эту половину вы отдадите мне.
Сказал так просто и обыденно, как будто речь шла о чем-то само собою разумеющемся. И я согласился. Как соглашался потом на то, чтобы писать лекции лекторам крайкома, писать целые куски в научных диссертациях, писать для других статьи… За моими плечами были уже годы тюрьмы и лагерей, я уже почти вышел из той иллюзорной жизни, какой жил с детства, меня трудно было удивить чем-либо в том, что происходит. Я знал свое безусловное право в поте лица своего добывать хлеб любыми способами, если они не противоречили моим, ещё существующим во мне законам совести.
– Вы почувствовали себя в другом мире, да?
– Да. Почувствовал себя в другом мире.
– Это был и для меня другой мир. Совершенно другой, хотя я не был коммунистом, как вы, наверное, не был журналистом, имел очень малое соприкосновение с политикой. Был музыкантом, и все у меня было связано с музыкой. Конечно, прозревать начал ещё в Москве, а окончательно зрячим стал во Владивостоке, а ещё больше в Москве.
– Так все же, Яков Александрович, зачем этим людям, на которых вы работали, нужны были деньги? Все ведь у них было: богатство, власть.
– Власти у них не было, вот в чем дело. При Сталине власть была у него одного. Все остальные имели только то, что он им давал, и не больше.
А хотелось больше! Даже старое поколение, большую часть жизни проведшее в бедности, хотело другого. Кроме старой и ненужной ему жены – молодых, все умеющих девиц; возможность иметь, кроме своей большой и скучной казенной квартиры, ещё одну – небольшую, уютную. А тут подрастало молодое поколение, которое жаждало всего, а не имело ничего. Конечно, была у начальства и прямая власть – позвонить, написать, приказать. Но при Сталине это было опасно, никто не мог поручиться, что не продадут. А деньги – самое надежное. Взявший деньги сделает все и тебя не заложит – себе дороже…
Вот в таком странном мире жил, стыдно сказать, а увлекся даже этой жизнью. Сам-то я жил весьма скромно, но вот верчение, разгадки тайных ходов, какое-то невероятное злорадство: смотрю на газету с важным портретом, читаю его идиотскую и лживую речугу и вспоминаю, каким он был позавчера, несколько дней назад, когда я ему клал в специально раскрытый ящик стола толстый конверт с деньгами…
– Но вот кто-то из них вас заложил!
– Да никто не заложил. Погорели совсем по-глупому, все началось с какого-то маленького служащего склада, который посчитал, что ему недодали…
– И на вас вышло НКВД?
– Нет, они к нам отношения не имели. И мы к ним. Это было совсем другая система, с нами не соприкасавшаяся. У них все свое было, а горели мы самым обыкновенным способом, через мелких работников милиции.
– А они не были куплены?
– Нет, конечно. Если всех покупать, дня не продержишься. Вот так закончилась моя московская жизнь. Не приехал туда со своим камерным оркестром из Владивостока, как думал когда-то…
– Вам не тяжело было, Яков Александрович, ходить в концерты в Большой зал?
– Ни разу не был. Ни на одном концерте. Приезжали на гастроли такие скрипачи, чьи фотографии когда-то был готов целовать. Ни разу не был. Отрезал это от себя навсегда. Иначе жить не сумел бы. Только раз не выдержал, купил очень хорошую и очень дорогую итальянскую скрипку. Просто так. Дома иногда брал её, протирал, и снова прятал. Ни разу не провел смычком. Знал – заиграю на ней, вся моя жизнь пойдет прахом.
– Вот эта скрипка?
– Нет, что вы! Ту забрали. Ведь меня с конфискацией… А эту я тут достал, привезли одному по моей просьбе.
– А ваш злой или, может быть, добрый гений – Петр Петрович? Он попал вместе с вами?
– Если бы такое случилось, я сейчас не разговаривал бы с вами. Нет, он даже свидетелем не проходил, вообще остался в стороне. Хотя я понимал на следствии, почему мне никто про него ни одного вопроса не задал. Даже о том, как я в Москве на такой работе очутился. Процесс был большой, да в нем никого из крупных не было. Я и в тюрьме получал все указания. Все взял на себя, все. Не только, конечно, не назвал ни одной фамилии, но и выручал отъявленных мерзавцев, готовых меня утопить. И когда мне передали: не бойся, останешься жив – твердо в это верил, не сомневался. Из двадцати семи человек – шесть к высшей мере. И меня, конечно. Стою, слушаю смертный приговор, смотрю на судью и думаю: сколько тебе дали? А самому интересно: кто меня заменяет в этой работе?
Ну, не скажу, чтобы четыре месяца в смертной камере были приятными. Не от страха – был уверен, что все сработает, а вот жизнь смертника – да, вы про это все знаете. Заменили, и уж по назначении в лагерь понял: не пропаду и в лагере. Усольлаг не Колыма, не Ухтпечлаг. Через несколько дней на этой командировке вызвал начальник, назначил помогать начальнику КВЧ. Как видите, живу неплохо для такого арестанта. Фира Давидовна мне иногда денег подбрасывает, прикупаю в вольном ларьке. Может быть, вам требуются деньги, Лев Эммануилович?
– Спасибо. У меня есть сколько нужно. Я ведь тоже не девушка, не фрей, рога давно сдал в каптерку… Ну, живете вы спокойно, но это же лагерь, и никто из вас не знает, чем обернется следующий день. И даже если все так, как сейчас, у вас впереди – четверть почти века, ссылка, – вы и при этих мыслях сохраняете спокойствие?
– А я и не собираюсь свой срок полностью отсиживать. У вас десятка. Дай вам Бог освободиться раньше. Но я ещё раньше буду на свободе. Уверен. Не в себе, в Петре Петровиче, во всей этой хорошо смазанной и отлично действующей машине.
– Слушаю и не понимаю: почему вы так уверены? Ну, в благодарность вам сохранили жизнь, здесь помогают, такое в законе и у других категорий арестантов есть. Но там-то вы не нужны уж никому, вы отработанный пар.
– Там я очень нужен. И на этом, а не каких-то сентиментальных чувствах Петра Петровича основан мой оптимизм. Я очень редкий человек, я верный человек. Лев Эммануилович. И в наше время такие под заборами не валяются. Я им ещё нужен, я им пригожусь. Не в одном деле, так в другом… А заметили вы, что все же неистребимо сидит в нас наше прошлое? Совсем не арестантский разговор ведем. Вас поместят в барак бесконвойных – есть тут один такой маленький, для пожарников поставили. Скажите мне, что нужно из постельных принадлежностей, я вам все это организую.
– Благодарствую, Яков Александрович, я ведь тоже почти в паханах хожу. Все найдется. Спасибо за хлеб-соль, за московский разговор, за музыку.
– Вы первый, для кого здесь играл. Поиграть вам ещё? Скажите, что хотите услышать?
– Вот – только не удивляйтесь – хотел бы услышать вальс из «Елки» Ребикова и мелодию Глюка. Но вы их, наверное, не играете?
– Нет, могу сыграть. Но ведь это не скрипичные вещи, их обычно играют солисты флейтисты.
– Мой отец играл мне их на флейте.
– Ну, что это вы, мой дорогой, до слез вас довел. Не будем возвращаться к музыке, она дает радость, но не дает счастья.
Это был, собственно, мой почти единственный разговор с Яковом Александровичем. Такой разговор. А дальше началась моя лагерная жизнь, она оказалась менее комфортной, нежели мы думали, когда плыли на Мазунь. На этой командировке бесконвойные требовались, чтобы ночью грузить на лесовозы недобранный днем подтрелеванный к лежневке лес. Наша бригада выходила на работу в восемь вечера, и почти до утра мы ездили по лежневке, вытаскивая из снега бревна. Работа эта была тяжелая, грязная, мы на час-другой разводили большой костер и сушились, немного подремывая. В зону приходили уже после развода, быстро съедали полуостывшую баланду и немедленно заваливались спать. Я давно уже не был на тяжелых работах, с непривычки уставал, с трудом заставляя себя раздеваться, мыть котелок и миску, смывать с лица и рук копоть костров.