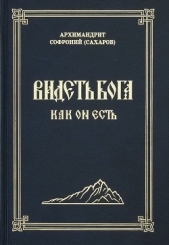Это мы, Господи, пред Тобою

Это мы, Господи, пред Тобою читать книгу онлайн
Воспоминания о репатриации казаков из Австрии в июне 1945 года, о лагере в Сибири. Автор — активная участница и одна из организаторов невооружённого сопротивления казаков против их насильственной выдачи англичанами в руки советских властей.
Евгения Борисовна Польская (в девичестве Меркулова) родилась в г. Ставрополе 21 апреля 1910 г. в семье терских казаков. Ее муж Леонид Николаевич Польский (1907 г.р.) был сыном Ставропольского священника Николая Дмитриевича Польского. В 1942 г. после немецкой оккупации супруги Польские в числе многих тысяч казачьих семей уходили на запад. В 1945 г. были насильно «репатриированы» обратно в СССР, как власовцы. И хотя в боевых действиях против «союзников» они не участвовали, Евгения Борисовна получила 7 лет лагерей, ее муж — 10. К концу жизни ею были написаны воспоминания «Это мы, Господи, пред Тобою…», в которых она описывает послевоенную трагедию казачества, а вместе с ним и всего русского народа, всей России… Скончалась Евгения Польская 18 января 1997 г.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Театр Радлова попал в заключение всей труппой, как репатриированный. В оккупацию он застрял в Пятигорске, еврейский состав потерял: то ли убили, то ли эвакуировать успели. Оставшуюся труппу немцы вывезли в Германию, потом прямым ходом их репатриировали в заключение куда-то на Волгу. О таких «настоящих» театрах мы и помышлять не смели, тоскуя о своем, «погорелом», стоившем нам стольких жертв, переживаний, волнений. Мы теперь только добром поминаем сердитого, несправедливого, надменного, наглого и талантливого И. А. Пьяницу, деликатного ворюгу, лагерного волка, давшего нам сладость творческой работы.
— По большому секрету: — продолжает неправдоподобный начальник, — театр Сиблага тоже разваливается: оттуда идет этапирование зеков с тяжелыми статьями в лагери особого режима. А у них — большинство таких. Артистов начинает не хватать. Обратимся-ка мы с вами к генералу! Подайте заявление через нашу КВЧ в тот Театр. Я генералу суну готовую бумажку… Там электричество. Евгения Борисовна, настоящая сцена…, режиссура… Стоит попробовать. Только этот разговор наш строго между нами. Я уверен, вы умеете молчать.
Памятуя свою первую просьбу к генералу Шамарину об отправке меня в Яю и его злорадный ответ — «В Черту», я справляюсь, не Шамарин ли сюда ожидается и, узнав, что не он, такое заявление подаю. В удачу почти не верю, но молчу: ни Вике, ни Соне! Может быть, это немного и подло, но… Неужели я снова выберусь из этих разваливающихся землянок, уйду от ернических песен, от гнилых старушек, от идиотизма деревенской жизни?! Не может быть!
Заявление я составляю дипломатически. Я называю столичные театры, где училась (вернее, посещала студии). Но я говорю не о студиях, а нагло пишу «работала», осторожно не называя себя, однако, профессиональной актрисой, хотя перечисляю свои острохарактерные роли.
И вот приезжает комиссия во главе с генералом. Накануне коллективными усилиями бараки чисто-начисто выскребли, насколько можно вычистить землянку. Топили прожарку, «чтобы ни одна вошка…» Все это мало украсило нашу полутемную, унылую подземную казарму с двухэтажными общими нарами.
В момент наивысшего напряжения в ожидании сиятельного начальства, когда вылощенные надзиратели вытянулись у входа, дневальные в трепете выпучили глаза: «идут! идут!», в нашей землянке с шумом и гулом обрушивается размытый таянием снега потолок. Обвал очень удачный: посредине строения, так что нары наши почти не засыпало землею. В дыру просвечивается небо. Перепуганные дневальные и надзиратели кидаются на крышу заделывать дыру, убирают землю. Женщины, волнуясь, что во время грядущих дождей будет течь, подхватив постели, перебираются в углы подальше от провала. Я припоминаю рассказы Щербакова, как в таких вот землянках Сиблага он постоянно прилаживал над постелью желоб, чтобы капель стекала на пол, а не на голову. И так было годами…
Сейчас гомон, визг. И в этот самый миг в землянку со звоном и помпой спускается генерал в лампасах и при золоте разных нашивок. Вся комиссия недоуменно застывает у входа.
— Что за суета?! — бешено вскрикивает начлага. Ему докладывают. Мы все выстраиваемся вдоль нар и нам, как никогда, весело: ихний генерал сам увидел, как мы живем. Вот удача!
Среди лагерного начальства душевный переполох, перед генералом осрамились, хотя и не виноваты. Начлаг увял, все расстроены. К счастью, земля сырая, пыли нет. Зато в землянку хлынул свет, и видно, как от отверстия к стенам массами уходят клопы. Неправдоподобный «третьяк» тоже в свите, он скашивает на меня глаза, и в них игранула лукавинка.
Тут кто-то из латающих крышу в благоговейном ужасе нечаянно наступает на вделанное в потолок окошко, сверху со звоном и хрустом летят стекла к ногам генерала, он испуганно отступает прямо к моему месту. Мы все даже не улыбаемся, но в душах ликование: сам увидел! Сам увидел!
— Плохо живете, женщины! — произносит тенорком генерал, приняв рапорт от дневальной, что в бараке столько-то заключенных (до 200), из них на работе…, в больнице…, не работающих инвалидов… и т. д.
— Плохо живете, вижу! Но в этом году мы дадим Арлюку для жилищ финские домики, и вы будете жить в сухих и теплых помещениях… — При создавшейся ситуации генерал обязан быть приветливым.
— Ну, а как вам живется? — вежливо обращается он к старушкам с 58-й статьей, которые сидят здесь чуть не по 20 лет. Некоторых он знает по фамилии.
— Очхорошо живем, гражданин генерал, сами видите, — басом за всех отвечает старуха Шаховская. И все смеются и смелеют.
— А нельзя ли расширить библиотеку? — А электричество будет?
— А будет когда-нибудь амнистия для 58 статьи?
Генерал приосанивается:
— В послевоенное время, естественно, всем трудно! («будто бы в довоенное было лучше», — думают старушки, сидящие десятилетиями). Теперь только можно обратить средства на благоустройство лагерей… Что же касается государственных преступников (он именно так о нас и выражается)… полагаю… когда-нибудь… (все понимающе улыбаются). Амнистия будет…
И на стандартный вопрос «жалоб нет?» при мгновенном молчании я выдвигаюсь из ряда и прошу слова: у меня просьба. Ради посещения генерала я приоделась, сделала наивозможно элегантную прическу. Мне необходимо наиболее контрастно выглядеть рядом со всеми. Дама, попавшая в самые жалкие обстоятельства, но дама! — вот кто я!
Начлага вздергивает голову. Он же не знает, о чем я буду просить. Он трусит. Но генерал, окинув меня снисходительно-любопытным взором, разрешает мне говорить. И я нагло говорю, что я — работник искусства, работала в художественных учрежденииях Москвы (я не называю учреждений, пусть считают их театрами). В лагере работала в Киселевском театре…
— У Райзина? — живо спрашивает он. — А, Вы? Француженка такая в «Скупом»? — Меня охватывает полымя счастья. Он видел! Он запомнил мою Фрозину! Отвечаю достойно и прошу перевести меня отсюда в Мариинский театр Сиблага. Неправдоподобный мой доброжелатель протягивает генералу мое заявление. Генерал безусловно театрал, потому что, когда он читает имена Гайдебурова, Ходотова, Мейерхольда, брови его подымаются. Я ведь не пишу «студия», я пишу «работала»… Я же не пишу, сколько недель или даже дней это продолжалось. Генерал становится серьезным.
— Видите ли, они обычно сами отбирают себе артистов на самодеятельных смотрах, — говорит он, — но сейчас мы постараемся вас им «навязать»; у них этапируют большие сроки, и артистов не хватает. Они уж и Бог знает, кого берут, портят состав. А у вас? О, с вашим сроком, статьей и подготовкой можно надеяться, вы у них задержитесь. Хорошо. Я поговорю». — Он кладет мой листок в карман, еще раз протяжно смотрит на меня и на наше жилище для пауков и ужей и уверенно подтверждает: «Хорошо!»
Я стараюсь не смотреть на неправдоподобного «третьяка» и кавечиста. Боже упаси обнаружить сговор. Но счастлива и тем, что из слов генерала поняла: мой пункт статьи и небольшой срок могут уберечь меня от этапирования в спецлагери со строгим режимом. Однако, ни на что не смею надеяться: лагерная жизнь, что кисель — меняет форму от формы сосуда. Вика смотрит на меня с завистью. В Киселевке никто не интересовался моей профессиональной подготовкой, считали, «хорошо играет», все, кроме И. А., считали, что знаю «технику». Конечно — нахальство заявить себя профессиональной актрисой, но Вика не допускает, что я могла что-то измыслить, да еще кому? Генералу НКВД! Я же, допустившая не полную ложь, а то, что в медицине называют аггровацией, спасаюсь от Арлюка и самонадеянно думаю, что уж в театре-то мной будут довольны!
Весна в Сибири приходит внезапно, сразу «выстреливает» травою и зеленью березок, теплом и обилием солнца. Именно в такой денек меня вызывают на этап. Сердце падает: все-таки, куда? В режимные лагери Тайшета, Казахстана или в театр? Неправдоподобного в зоне не встречаю, пойти самой к нему — зазорно: ходить без вызова к «третьяку» — значит, сексотничать.
Вику и Соню мне жаль оставлять до душевного визга. Они молят: если — в театр, замолвить и за них там словечко. Но я сама начинаю тревожиться: там работают премьерши оперетт, актеры крупные, с именами. Сдюжаю ли сама среди таких?