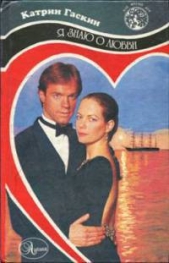Николай Гумилев
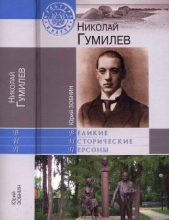
Николай Гумилев читать книгу онлайн
Долгое время его имя находилось под тотальным запретом. Даже за хранение его портрета можно было попасть в лагеря. Почему именно Гумилев занял уже через несколько лет после своей трагической гибели столь исключительное место в культурной жизни России? Что же там, в гумилевских стихах, есть такое, что прямо-таки сводит с ума поколение за поколением его читателей, заставляя одних каленым железом выжигать все, связанное с именем поэта, а других — с исповедальным энтузиазмом хранить его наследие, как хранят величайшее достояние, святыню? Может быть, секрет в том, что, по словам А. И. Покровского, «Гумилев был поэтом, сотворившим из своей мечты необыкновенную, словно сбывшийся сон, но совершенно подлинную жизнь. Он мечтал об экзотических странах — и жил в них; мечтал о немыслимо-ярких красках сказочной природы — и наслаждался ими воочию; он мечтал дышать ветром моря — и дышал им. Из своей жизни он, силой мечты и воли, сделал яркий, многокрасочный, полный движения, сверкания и блеска поистине волшебный праздник"…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
С безумной смелостью отчаянья мы бросились на нее, подняв багры. Она прыгала, увертывалась, обливаясь кровью, злобно ревела, но не хотела оставлять тело девочки. Наконец, под градом ударов, изуродованная, она свалилась на бок и затихла, и тогда лишь, по обрывкам одежды, могли мы узнать в мертвом чудовище веселого товарища — Черного Дика».
Если даже «ранний» Гумилев не испытывает, подобно своим «учителям» — символистам и «декадентам», тоску по «утраченному хаосу», то тем более «поздний» Гумилев, Гумилев — акмеист, лишен каких-либо иллюзий относительно «натурфилософского» благополучия современной «цивилизации». С момента усвоения им основ православной антропологии он вполне принимает главную идею ее: люди в настоящем есть почти звери, и весь вопрос заключается только в том, насколько стеснено в настоящий момент это неизбывное «зверство». Еще до войны 1914 г. (не говоря о революции) он приходит к печальному выводу, что стихийная дикость в современной Европе, хотя и приглушенная слегка сверхъестественным, героическим усилием европейской цивилизации, мало чем отличается от архаического варварства:
А в драматической поэме «Гондла», написанной уже в самый разгар «военной грозы», метаморфозы «озверения» становятся важным элементом сюжета. Так, например, «волки»-язычники, охваченные задором погони, действительно обретают «видовые черты» своего тотема:
Ницше говорил (а «ницшеанцы» повторяли бессчетное количество раз), что европеец конца XIX столетия окончательно «превратился в наслаждающегося и бродячего зрителя и переживает такое состояние, из которого даже великие войны и революции могут вывести его разве на одно мгновение» (Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 186). В «Заратустре» выведен комический образ «моргающего человечка», знаменующего итог развития современной цивилизации:
«Смотрите! Я показываю вам последнего человека.
«Что такое любовь? Что такое творение? Устремление?” — так вопрошает последний человек и моргает…
Нет пастуха, одно лишь стадо! Каждый желает равенства, все равны: кто чувствует себя иначе, тот добровольно идет в сумасшедший дом.
“Прежде весь мир был сумасшедшим”, — говорят самые умные из них и моргают.
Все умны и знают все, что было; так что можно смеяться без конца. Они еще ссорятся, но скоро мирятся — иначе это расстроило бы желудок.
У них есть свое удовольствиеце для дня и свое удовольствиеце для ночи; но здоровье — выше всего.
“Счастье найдено нами”, — говорят последние люди и моргают» (Ницше Ф. Сочинения. В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 12).
Не вызывает сомнений, что к данной характеристике у Гумилева, обогащенного опытом 1914–1917 гг., было существенное добавление: «моргающий человечек» современности был, возможно, добр, сентиментален, жалок, убог, труслив, — но вот «великие войны и революции» смогли «вывести его из себя» отнюдь не «на одно мгновение», а весьма надолго. В 1916 году в его творчестве появилась своя художественная версия «моргающего человечка»: стихотворение «Рабочий».
Если учесть, что «Заратустру» Гумилев еще в 1903 году зачитал до дыр, а потом неоднократно возвращался к этой книге на протяжении всей жизни (в 1920 году он подарил свой экземпляр философского романа Ницше И. В. Одоевцевой, снабдив его назидательной надписью из «Бориса Годунова»: «Учись мой сын: наука сокращает Нам опыты быстротекущей жизни» — см.: Одоевцева И. В. На берегах Невы. М., 1988. С. 52), то нельзя объяснить появление такой детали, как «миганье» в портрете «рабочего», случайной прихотью автора. Здесь поэтическое совпадение с Ницше не только по форме, но и по существу: «моргающим»/«мигающим» герой выведен и там, и здесь, именно для того, чтобы подчеркнуть его «покорность», личностное убожество, мещанскую скудость его бытия. Гумилевский рабочий — один из представителей «неистребимого рода земляных блох, который живет дольше всех»; по крайней мере, образ, выведенный в стихотворении, вполне органично дополняется ницшевской иронией: «Что такое любовь? Что такое творение? Устремление?» — так вопрошает последний человек и моргает. У него, как и у всех, «есть свое удоволь-ствиеце для дня и свое удовольствиеце для ночи; но здоровье — выше всего». «Удовольствиеце» для ночи упомянуто и в стихотворении Гумилева:
Впрочем, если «ночное удовольствиеце» гумилевского рабочего вполне согласно с ницшевскими характеристиками «земляной блохи», то «удовольствиеце дневное» оказывается в трактовке Гумилева несколько иного рода:
«Рабочий» Гумилева — убийца.
Долго, упорно, тщательно он выковывает смерть своему врагу, эта работа захватывает его, так что он утрачивает контроль за временем:
«Моргающий» герой Гумилева переживает немой, «дионисийский», садистический экстаз, загодя предвкушая страдания и смерть жертвы, он охвачен отблесками «красного пламени», которое оказывается символическим обозначением снедающей его животной страсти: