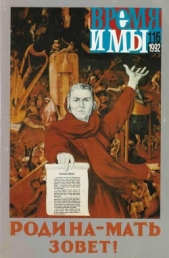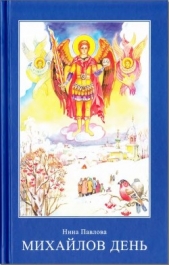Поживши в ГУЛАГе. Сборник воспоминаний

Поживши в ГУЛАГе. Сборник воспоминаний читать книгу онлайн
Авторы сборника — люди, прошедшие через ГУЛАГ. Через тюрьмы, допросы, издевательства, карцеры и камеры смерти, этапы и лагеря. Они работали на лесоповале и в рудниках, голодали, болели, теряли товарищей. Но в нечеловеческих условиях, при любых обстоятельствах — будь то стычки с лагерным начальством или конфликты между политическими и уголовниками — они умели отстоять свое достоинство.
Составитель: Александр Солженицын.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Меня вернули к действительности, толкнув в ближайшую дверь, меньше остальных и без фрамуги. Я очутился в какой-то странной комнате, довольно просторной, с полом, устланным поглощавшим шум шагов линолеумом, и мягкими стенами, обтянутыми желтой кожей в форме выпуклых тугих подушек правильной квадратной формы. Вид комнаты вызвал у меня недоумение. «Что это за камера, — думал я, — и почему именно для меня такая?»
Но все объяснилось. На пол мне бросили чистое белье и больничные тапочки.
— Переодевайся, — послышалась команда.
А пока переоблачался, все еще озираясь по сторонам, я понял, что это палата для буйно помешанных или тех, кто делает попытки покончить с собой путем удара головой о стену. В этой тюрьме все было предусмотрено.
Шлепая большими тапочками, в одном нательном белье, я очутился наконец в камере, а точнее, в палате тюремной больницы на две койки, на одной из которых, слева от входа, лежал человек, с головой закутавшийся в одеяло. Палата оказалась просторной (вполне можно было поместить в ней еще две койки), достаточно светлой; кроме коек, меблированной еще двумя табуретками и очень холодной, поэтому на правах больного я быстро юркнул под одеяло.
Я долго лежал, томясь от безделья, тем более что рассматривать в палате было совершенно нечего. Меня привлекал только неподвижно лежащий сосед, которого я еще не видел и который удивлял меня таким продолжительным беспробудным сном. Но за день мы все-таки познакомились.
Закутанный сосед стал подавать признаки жизни. Сначала он поворочался, не раскрываясь, как-то очень осторожно, медленно, не делая значительных движений. Потом из-под одеяла показалась его голова. Меня сразу поразило его лицо: худое, изможденное, с каким-то неживым цветом кожи — не белым, но без малейшего признака румянца. Рассматривая его, я определил, что человеку этому лет пятьдесят и он высокого роста, а по едва уловимым признакам — что он интеллигент. Не сразу, видимо собрав силы, глухим, ослабшим голосом он представился:
— Львов.
Говорил он с большим трудом, делая продолжительные паузы. И все-таки я узнал, что это бывший профессор Военной 272 академии имени Фрунзе. Когда немцы наступали на Москву, академию эвакуировали в Ташкент. Там он и был арестован, в числе многих, за антисоветскую деятельность. Человек строгих правил, очень порядочный, интеллигент от рождения, интеллигент того типа, который в настоящее время вымер у нас как вид, он не признавал предъявленных ему вымышленных обвинений. Ничего не добившись в Ташкенте, Львова отправили в Москву, на Лубянку. За два года его не могли сломить морально, но сломали физически. Передо мной лежал уже не человек, лежал труп, который еще не покинула душа.
— Я решил умереть, — сказал он мне. — Объявил голодовку.
И он действительно не прикасался к еде, которую ставили перед ним на табуретке. За все дни, что мы находились вместе, он ни разу не поднялся с постели. Но всякий раз, когда я возвращался с положенной двадцатиминутной прогулки, он что-нибудь спрашивал затухающим голосом или коротко, в несколько слов, сам рассказывал мне. От него я и узнал, что нахожусь в Бутырской тюрьме, построенной еще при Екатерине Великой. А однажды спросил, в каком дворике я гулял.
— Маленький, — ответил я, — неправильной формы, под круглой башней.
— Эта башня знаменитая, — посвятил он меня. — В ней, закованный в цепи, сидел перед казнью Емельян Пугачев.
Иногда тишину больницы нарушал сильный мужской голос. Он выкрикивал речи-панегирики сначала врачам и всему медперсоналу, потом работникам славных органов госбезопасности, неутомимым в труде следователям и доблестным прокурорам. Постепенно это славословие переходило в ругань, проклятия и заканчивалось сплошной матерщиной в тот же адрес.
Я не мог ничего понять, но как-то выбрал момент и спросил у Львова:
— Что это такое?
— Сумасшедший напротив в палате, — ответил он.
А на другой день, когда нам вносили обед, я увидел через коридор этого несчастного. Раскинув руки, как на распятии, он каким-то чудом повис на фрамуге и произносил очередной панегирик.
В больнице я долго не задержался. Почему-то всегда и везде проявляют повышенную заботу о здоровье тех, кого намереваются лишить жизни.
Я покинул палату, не простившись со Львовым. Он лежал, как застывший, укрывшись с головой одеялом, как саваном. Жизнь его измерялась часами.
Глава 5
Внутренняя тюрьма на Лубянке
Коридоры внутренней тюрьмы на Лубянке устланы ковровыми дорожками. В отличие от Воробьевки замки бесшумные, но, когда меня ночью привели в камеру, все ее обитатели подняли головы. Подследственные, если их не измотали допросами, спят чутко, даже во сне ожидая вызова к следователю.
Камера оказалась довольно большой: три койки вытянулись по одну сторону, три — по другую. В центре — большой крашеный стол. Такие же темно-зеленые панели по стенам, паркетный пол, огромное окно, закрытое светомаскировочной шторой. На столе — большой красной меди чайник и эмалированные кружки.
Все койки были заняты, мне принесли дополнительную, разложили посредине в линию со столом. Снабдили постелью. Но заснуть сразу не удалось: напали клопы. Узнав причину моего беспокойства, переполошилась вся камера. Вызвали надзирателя. И только когда мне принесли другую койку, даже с остатками снега на ней, все успокоилось.
Забавной показалась мне с первого дня жизнь на Лубянке. Что-то комичное просматривалось в драматической ситуации. Ведь все в жизни можно рассматривать с двух противоположных позиций — юмористической и трагической.
Одной из первых процедур после утреннего подъема является шествие в туалет. Шли попарно, первая пара — дежурный по камере и его помощник, завтрашний дежурный, — торжественно несла парашу. Почему этот вонючий бак несли впереди и все, как на крестный ход, следовали за ним? Обычно впереди несут знамя или хоругви. В тюрьме, как святые мощи, носят ржавую семиведерную посудину, коллективно наполняемую мочой. Шествие замыкает вертухай. Второй встречает у распахнутой двери в туалет, раздает листочки клозетной бумаги, но не всегда. Да с тюремных харчей в ней и нет постоянной необходимости.
После этого священнодействия в камере наступает настороженная тишина. Кто-то разглаживает на коленях платочек, кто-то читает книгу, но все, даже если кто и разговаривает вполголоса, сторожко прислушиваются: приближается «веселая минутка». Среди всех звуков, доносящихся в камеру извне, арестант безошибочно отличит тот единственный, металлический — черпака о миску или от крышки чайника, — который извещает о приближении пищи.
— Несут! — И вся камера в момент оживает, как будто очнувшись.
Пайки хлеба раскладываются на столе; выбираются они в порядке строгой очередности. Я пришел в камеру последним и мог рассчитывать поэтому только на оставшуюся. Первым выбирал Смирнов. Это был студент МГУ, грузный, сутуловатый, с пухлыми красными щеками, покрытыми цыганской щетиной, и в очках-линзах, без которых он становился почти слепым. Преступление его против советской власти заключалось в том, что на историко-филологическом факультете МГУ студенты пришли к выводу, что управлять страной могут только специально подготовленные люди. Готовить такие кадры нужно в специализированном учебном заведении, для чего больше всего, по их мнению, подходил их факультет — «питомник членов правительства», как назвал его один из сокамерников, Ягодкин.
Смирнов приблизился к столу. Низко склонившись, он тщательно рассматривал каждую пайку. Момент был ответственный. Целую неделю ожидал он своего права выбирать первым, и сейчас нужно было не промахнуться, потому что пайки состоят из горбушек и сердцевинок. Горбушка посуше, а значит, и объем ее больше. К тому же к пайкам деревянными колышками пришпилены довески, тоже все разные. Да, требовались опыт, хладнокровие, точный глазомер, чтобы безошибочно выбрать самую большую пайку.
Слепой Смирнов почти носом водит по разложенному на столе хлебу. Он переживает, никак не может решиться, но… выбор наконец сделан. Он схватил горбушку, поднес ее к глазам и тут же оглянулся на стол: кажется, ошибся, вон та, с двумя довесками, что осталась лежать с краю, больше. Смирнов подавляет вздох. Завтра он уже будет брать последним что останется.