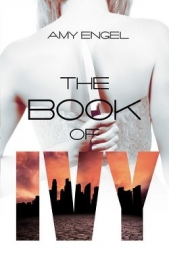Жестокий мир кино (Лaтepнa магика)

Жестокий мир кино (Лaтepнa магика) читать книгу онлайн
"Я просто радарное устройство, которое регистрирует предметы и явления и возвращает эти предметы и явления в отраженной форме вперемешку с воспоминаниями, снами и фантазиями, — сказал в одном из немногочисленных интервью знаменитый шведский театральный и кинорежиссер Ингмар Бергман. — Я не позволяю насильно тянуть себя в ту или иную сторону. Мои основные воззрения заключаются в том, чтобы вообще не иметь никаких воззрений".
В этих словах есть доля лукавства: фильмы Бергмана — исследование той или иной стороны человеческого сообщества, идеологической доктрины, отношений между людьми. Достаточно вспомнить его самые яркие фильмы — "Змеиное яйцо" и "Стыд" (анатомия фашизма), "Седьмая печать" и "Вечер шутов" (судьба "маленького человека"), "Персона", "Час волка" (жребий художника), "Земляничная поляна", "Осенняя соната" (цена любви), "Причастие" (отрицание Бога).
В том мемуарной прозы вошли его две автобиографические книги — "Латерна магика" и "Картины", которые подтверждают, что Бергман не "призрачная фигура, не способная ни любить, ни согревать", а мощный художник, создавший шедевры, вошедшие в золотой фонд мирового кинематографа.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я снимаю пальто и ботинки и на цыпочках иду по скрипучему, навощенному полу столовой. Мать сидит у письменного стола, на носу очки, еще не успевшие поседеть волосы в легком беспорядке. Склонившись над своим дневником, она что‑то пишет тоненькой авторучкой. Ровный, стремительный почерк, микроскопические буковки. Левая рука покоится на столе: короткие сильные пальцы, тыльная сторона руки испещрена вздутыми голубыми венами, блестят массивные обручальные кольца и бриллиантовое кольцо между ними. Кожа вокруг коротко остриженных ногтей в заусенцах.
Она быстро поворачивает голову и видит меня (как страстно я желал вновь пережить этот миг; с тех самых пор, как умерла мать, тосковал я по этому мгновению). Она суховато улыбается, захлопывает тетрадь и снимает очки. Я по — сыновнему целую ее в лоб и коричневое пятнышко у левого глаза.
— Знаю, что помешал, это ведь твои священные минуты, я знаю. Отец отдыхает перед обедом, а ты читаешь или пишешь дневник. Я только что был в церкви, слушал «Рождественскую ораторию» Баха, это так красиво, и красивое освещение, и я все время думал: все‑таки сделаю попытку, на этот раз обязательно получится.
Мать улыбается, — как мне кажется — иронически, я знаю, что она думает!
«Ты часто, каждый день проходил по Стургатан по дороге в театр. Но тогда тебе редко или почти никогда не приходило в голову заглянуть к нам». Да, действительно не приходило, я ведь был Бергманом: не буду мешать, не буду навязываться, к тому же разговор опять пойдет о детях, не могу я говорить о детях, я с ними не вижусь. И опять начнется игра на чувствах: мог бы сделать это ради меня. Не сердись, мама! Не будем выяснять отношения, это бессмысленно. Позволь мне просто посидеть несколько минут в этом старом кресле, нам не нужно даже разговаривать. Пожалуйста, продолжай писать свой дневник, если хочешь…
Стиральная машина! Я же собирался купить стиральную машину, черт! Матери нужна стиральная машина, вспоминал я время от времени и, разумеется, ничего не сделал.
Мать встает и быстрыми шагами (всегда быстрыми шагами) направляется в столовую, пропадает во мраке, какое‑то мгновение слышится ее возня в гостиной, она зажигает лампу на круглом столе, возвращается, ложится поверх бордового покрывала и натягивает на себя серо — голубую шерстяную шаль.
— Усталость никак не проходит, — говорит она, извиняясь.
— Я хотел бы спросить тебя, мама, кое о чем, очень важном. Два — три года назад, по — моему, летом 1980 года, я сидел в кресле в своем кабинете на Форё, шел дождь, знаешь, тихий летний дождь, который зарядил на целый день, сейчас такого не бывает. Я читал, прислушиваясь к дождю. И вдруг почувствовал, что ты рядом, мама, я мог бы дотронуться до твоей руки. Я не спал, это совершенно точно, и это не было каким‑то сверхъестественным явлением. Я знал, что ты находишься в комнате, или же мне все это только пригрезилось? Никак не пойму и поэтому решил спросить тебя!
Мать, внимательно глядевшая на меня, отворачивается, берет думочку в зеленую клетку и кладет себе на живот.
— Это была, очевидно, не я, — говорит она спокойно. — Я все еще чувствую страшную усталость. Ты уверен, что это не был кто- то другой?
Я отрицательно мотаю головой: уныние, чувство, что вторгся в запретную зону.
— Мы ведь стали друзьями, разве мы не стали друзьями? Прежние роли — матери и сына — ушли в прошлое, и мы стали друзьями, ведь так? Говорили искренне и доверительно? Разве нет? Я начал понимать твою жизнь, мама, но приблизился ли хоть на йоту к настоящему пониманию? Или эта наша дружба была всего лишь иллюзией? Нет, не думай, пожалуйста, будто у меня помутился рассудок от самобичевания. Это не так. Но дружба? Может, роли остались неизменными, изменились только реплики? Игра шла на моих условиях. А любовь? Я знаю, в нашей семье не пользуются подобной терминологией. Отец в церкви говорит о любви Господа. А здесь, дома? Как обстояло дело с нами? Как сумели мы преодолеть раздвоенность души, справиться с глухой ненавистью?
— Поговори еще с кем‑нибудь, я слишком устала.
— С кем? Я даже сам с собой не могу говорить. Ты устала, это понятно, я и сам иногда чувствую, как усталость парализует нервы и внутренности. Мама, ты обычно говорила: пойди займись чем‑нибудь, поиграй в свои новые игрушки. Нет, не надо, я не люблю нежностей, тебе бы только поласкаться, ведешь себя, как девочка. Ты как‑то сказала, что бабушка была к тебе сурова. Всю свою любовь она отдала младшенькому, тому, который потом умер. А кому ты отдала свою любовь?
Мать поворачивается лицом к свету настольной лампы, и я вижу ее темный взгляд, взгляд, который невозможно ни искупить, ни вынести.
— Знаю, — говорю я поспешно, с трудом сдерживая дрожь, — Цвели цветы, тянулись вверх вьюнки, зеленели ростки. Цветы цвели, а мы? Почему все было так плохо? Из‑за бергмановского оцепенения? Или была другая причина? Помню, брат однажды что‑то натворил. Ты, мама, вышла из вот этой комнаты, прошла в гостиную, где мы находились, и пошатнулась влево. Я подумал тогда: она играет, но переигрывает, это выглядело не слишком убедительно. Нас что, наделили масками вместо лиц, истерией вместо чувств, стыдом и виной вместо нежности и прощения?
Мать подносит руку к волосам, взгляд — темный, неподвижный, по — моему, она даже не мигает.
— Почему брат стал инвалидом, почему раздавили сестру, превратив ее в сплошной крик, почему я жил с воспаленной, не заживающей раной в душе? Не хочу измерять долю вины калрого, я не учетчик. Хочу только узнать, почему мы так жестоко страдали за непрочным фасадом социального престижа? Почему оказались искалеченными брат и сестра — несмотря на заботу, поддержку, доверие? Почему я столь долго был не способен на нормальные человеческие взаимоотношения?
Мать садится, отводит глаза и глубоко вздыхает — на левом указательном пальце я замечаю полоску пластыря. На ночном столике исправно тикают золотые часики. Она несколько раз сглатывает.
— У меня в запасе целый арсенал объяснений — каждого чувства, каждого движения, каждого физического недомогания, потому я употребляю именно эти слова. Люди понимающе кивают головой: так и должно быть! А я все‑таки беспомощно низверга — i юсь в бездну жизни. Как высокопарно это звучит: низвергаюсь в бездну жизни. Но бездна — реальность, к тому же она бездонна, и не разбиться насмерть в каменистом ущелье или о зеркало воды. Мама — я зову маму, как звал всегда: когда лежал ночью с температурой, когда приходил из школы, когда бежал в темноте через больничный парк, преследуемый привидениями, когда протяги+ вал руку, чтобы дотронуться до тебя тем дождливым днем на Форё. Не знаю, ничего не знаю. Что же это с нами происходит? Нам с этим не справиться. Да, верно, у меня повышенное давление, заработал во времена унижений и оскорблений. Мои щеки горят, я слышу чей‑то вой, наверное, свой собственный.
Надо взять себя в руки, успокоиться. Наша встреча оказалась не такой, как я ее себе представлял: мы должны были с легкой грустью вести негромкую беседу о загадках. Ты бы, мама, слушала и объясняла. Все было бы преисполнено чистотой и совершенством, как баховский хорал. Почему мы никогда не говорили отцу и матери «ты»? Почему нас заставляли обращаться к родителям на «вы» — грамматическая несуразность, удерживавшая нас на расстоянии?
Мы обнаружили в сейфе твои дневники, мама. После твоей смерти отец просиживал дни напролет с лупой, пытаясь разобрать микроскопические, частично зашифрованные записи. Постепенно он понял, что никогда по — настоящему не знал той женщины, с которой прожил в браке пятьдесят лет. Почему ты, мама, не сожгла свои дневники? Продуманное мщение: дескать, теперь говорю я, а тебе до меня не добраться, я открываю тебе самое сокровенное, и ты не можешь ответить молчанием; сейчас ты не сможешь промолчать, как молчал всегда, когда я умоляла, плакала, неистовствовала.
Я заметил, что мать начала растворяться. Исчезли ноги под шалью, бледное лицо, отделившись от шеи, парило перед восточными занавесями, глаза были полузакрыты. Темный взгляд обращен внутрь, указательный палец с полоской пластыря неподвижно замер на крышке золотых часов. Хрупкое тело слилось с узором покрывала. Я сделал еще одну попытку, не особенно напрягаясь: