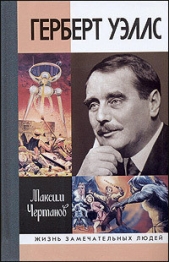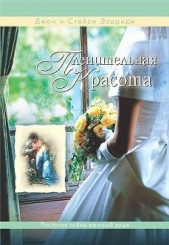Железная женщина

Железная женщина читать книгу онлайн
Марию Закревскую по первому браку Бенкендорф, называли на Западе "русской миледи", "красной Матой Хари". Жизнь этой женщины и в самом деле достойна приключенческого романа. Загадочная железная женщина, она же Мария Игнатьевна Закревская – Мура, она же княгиня Бенкендорф, она же баронесса Будберг, она же подруга «британского агента» Р. Локкарта; ей, прожившей с Горьким 12 лет, – он посвятил свой роман «Жизнь Клима Самгина»; невенчаная жена Уэллса, адресат лирики А. Блока…
Н. Берберова создает образ своей героини с мастерством строгого историка, наблюдательного мемуариста, проницательного биографа и талантливого стилиста.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В феврале на семейном совете было решено продать у Сотби, крупного лондонского аукционщика, горьковскую коллекцию нефритовых фигур. Это было сделано ввиду первой задержки в пересылке денег Госиздата (позже их было довольно много) и отчаяния Ладыжникова, который не знал, как реагировать на просьбы Горького о деньгах.
Враги давно говорили, что Горький присвоил себе коллекцию из Эрмитажа в 1918 году, «спасая художественные ценности». Это была клевета. Слухи ходили, что какой-то царский генерал, будучи в 1904 году в Ляояне по делам сколь политическим, столь и коммерческим, восхитился этой коллекцией и попросил китайцев ему ее подарить, что они с радостью и сделали. В октябре 1917 года она была у него изъята (комиссией, в которой в это время работали многие из друзей Горького, в том числе А. Р. Дидерихс и водворена в Эрмитаж, откуда была убрана и преподнесена Горькому. Третьи считали, что коллекция никогда не принадлежала Эрмитажу, что в Эрмитаже имеется другая коллекция нефрита, а эта, горьковская, была дана ему на хранение директором Петербургского частного коммерческого банка Э. К. Груббе, давшим Горькому деньги на «Новую жизнь» и уехавшим после Октября в Европу. Через 4 года, когда Горький выехал и вывез коллекцию за границу, Груббе отказался от нее и подарил ее Горькому. Как бы там ни было, деревянный ящик с крючками и замочком выволокли из-под кровати Соловья, и в день приезда фотографа из Неаполя Максим позвал меня, чтобы расставить на обеденном столе, на фоне красного бархата, двадцать три фигуры, от маленькой, сантиметров в двенадцать высотой, до крупных, сантиметров в двадцать и выше.
Фотограф приехал с огромным старинным аппаратом, похожим на сундук, и, накрывшись черной простыней, стал налаживать объектив. Максим просил меня никуда не отлучаться. Сам он решил быть все время при фотографе и не спускать с него глаз, а моя роль заключалась в том, чтобы я была недалеко, в комнате или рядом, если вдруг Максиму понадобится помощь. Горький заглянул в дверь, но Максим замахал на него руками. Фотограф прилаживался долго, потом ему дали закусить, потом он вернулся. Максим стоял подле фигур, я ходила из столовой в прихожую и из прихожей – в столовую. Мура вышла из своей комнаты полюбоваться на коллекцию, переставила фигуры по-своему, улыбнулась фотографу и ушла. Наконец, фигуры все были сняты и черная простыня сложена пакетом, аппарат уложен в футляр красного дерева, и Максим пошел к мотоциклу отвозить фотографа в город. Я крикнула ему, что фигур не двадцать три, а двадцать две. Он посмотрел на счет, который фотограф дал ему. Были сняты двадцать две фигуры. Я сейчас же поняла, что Максим ошибся при счете, но Максим не соглашался со мной. Он пошел к Муре в комнату и сказал:
– Титка, отдай нефрит.
Она вышла к нему, она не понимала, чего он требует. Максим считал, что она шутит с ним шутки, но она никаких шуток не собиралась шутить. В воздухе повисла тяжелая неловкость. Мы вдвоем с ним молча собрали фигуры и уложили их в ящик. Я сказала ему: С самого начала было двадцать две фигуры, не двадцать три. Это совершенно ясно. Максим спорил со мной: так ошибиться он не мог. И фотограф не мог украсть – он с него глаз не сводил. Да, сказала я, и все-таки каждый человек может обсчитаться. В этом никакой беды нет.
На этом история с нефритом кончилась, он был послан в Лондон и там продан.
Мура в эту первую итальянскую зиму казалась всегда озабоченной, и причин для этого было много. Сестра Алла в Париже, Будберг в Аргентине, дети в Таллинне – деньги только отчасти могли приглушить постоянную тревогу: «что будет? как все устроится? и устроится ли?» И здоровье Горького: он болел в январе, когда ее не было, Тимоша и я поочередно день и ночь дежурили около него. В больницу ложиться он не хотел. Доктор растерянно уверял нас, что только больница может его спасти. Когда Мура вернулась, он все еще едва стоял на ногах. Случай с тремя переводными неудачами словно выбил у нее почву из-под ног. Смерть Парвуса ставила вопросительный знак над прочностью этого общего устройства жизни, которое оказалось совсем не так прочно, как все думали. Госиздат? Он может оказаться соломинкой, за которую утопающий не удержится, или он может оказаться гранитной скалой, – все зависит от того, как будет себя вести утопающий. Могут из Москвы поставить ультиматум: или возвращайтесь, или мы прекращаем платежи. Максим в этом деле ее союзник, но сделать он ничего не может. Мария Федоровна может помочь и помогает, и Екатерина Павловна в Москве тоже.
Н. Я. Мандельштам в своей первой книге воспоминаний говорит о Пешковой: она в 1920-х – 1930-х годах состояла председательницей «Политического Красного креста» [51], т. е. Пешкова была как бы посредником между политическими преступниками и ВЧК, или НКВД, или ГПУ. Началось все через ее дружбу с Дзержинским, которого она ставила очень высоко за «моральные качества». Когда-то она устроила к нему на службу Максима, и он тоже оценил личность Дзержинского, и даже иногда мечтал вернуться в Россию и опять работать с ним. Как председательница Политического Красного креста, Ек. П. ходатайствовала перед председателем ВЧК за арестованных эсеров (она сама состояла в молодости в партии эсеров). Их расстреливали и ссылали все равно, как бы ее и не было, но тем не менее живущие в эмиграции в Париже эсеры верили в ее помощь и ежегодно собирали суммы для посылки арестованным на ее адрес. Н. Я. Мандельштам пишет:
«Жены арестованных проторили дорогу в „Политический Красный крест" к Пешковой. Туда ходили в сущности просто поболтать и отвести душу, и это давало иллюзию, столь необходимую в периоды тягостного ожидания. Влияния „Красный крест" не имел никакого. Через него можно было изредка переслать в лагерь посылку или узнать об уже вынесенном приговоре и о совершившейся казни. В 1937 г. эту странную организацию ликвидировали, отрезав эту последнюю связь тюрьмы с внешним миром».
Она была женой Горького неполных десять лет. После кризиса в 1903—1904 годах они остались близкими друзьями. Она в свое время, судя по всему, не могла не знать о растрате Парвуса; в 1912—1913 годах она была посвящена в тот факт, что жизнь Горького с Марией Федоровной идет к концу. Она знала про В. В. Тихонову, и теперь (ей было в 1925 году сорок семь лет, она была моложе Андреевой на шесть лет), когда у нее был полуофициальный друг, как тогда говорили, Михаил Константинович Николаев, заведующий «Международной книгой», она очень спокойно относилась к Муре, только старалась гостить в доме Горького тогда, когда ее там не было. К ее эсерству Горький очень рано начал относиться презрительно: «Твои эсеры, – писал он ей в 1905 году, – довольно-таки пустяковый народ. Шалый народ!» Это не мешало ему доверять ей во всем. После разрыва из-за Андреевой Горький мечтал, что «время все залечит», что и случилось. «Будь добра, – писал он Пешковой в отчаянные для него дни, когда в январе 1905 года Мария Федоровна на гастролях в Риге заболела перитонитом и с ней там был ее поклонник Савва Морозов, а Горький вырваться в Ригу не мог, зная, что его там арестуют, – будь добра, привыкни к мысли, что [М. Ф.] и хороший товарищ, и человек не дурной, чтобы в случае чего не увеличивать тяжесть событий личными отношениями».
Если «Политический Красный крест», как пишет Н. Я. Мандельштам, не помогал заключенным и их семьям, то он несомненно помогал той, которая была его председательницей. Ек. П., благодаря работе с Дзержинским, сделалась «кремлевской дамой»: она ездила за границу раза два в год, оставалась там долго, и даже навещала своих старых друзей, теперь эмигрантов-социалистов, игравших до Октябрьской революции роль в русской политике, и вплоть до 1935 года – насколько мне известно – видалась и с Ек. Д. Кусковой, и с Л. Ос. Дан. Помочь их друзьям и единомышленникам (которые когда-то были и ее партийные товарищи) она ничем не могла, но аура бесспорной порядочности, если и не прозорливости, окружала ее. В Европе она чувствовала себя так же уверенно, как у себя в Москве, в свое время она много лет прожила с сыном на итальянской Ривьере и в Париже. В ней было что-то от старой русской революционерки-радикалки, принципиальное, жесткое и, как это слишком часто бывает, – викторианское, пуританское. Юмора Максима она не понимала, его увлечений футболом, аэропланами новейшей конструкции, марками и популярными экспедициями не разделяла. Но в Сорренто чувствовала себя хорошо, была всем довольна и по четыре часа загорала на балконе в столовой, в купальном костюме, на январском солнце. В своих рассказах она сильно нажимала на энергию Дзержинского, на чистоту идей Ленина и на то обстоятельство, что Горького в России ждут, что без него там литературы нет и не будет, и что если он не вернется в ближайшие годы, то его там могут вытеснить в сердцах читателей те, кто побойчее и помоложе, а главное – погорластее. А какое будущее в Европе у их единственного сына? Он здесь совершенно не развивается. Ходасевич пишет: