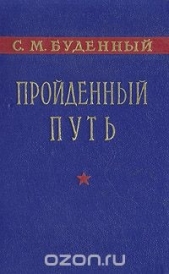Книга воспоминаний

Книга воспоминаний читать книгу онлайн
"Книга воспоминаний" известного русского востоковеда, ученого-историка, специалиста по шумерской, ассирийской и семитской культуре и языкам Игоря Михайловича Дьяконова вышла за четыре года до его смерти, последовавшей в 1999 году.
Книга написана, как можно судить из текста, в три приема. Незадолго до публикации (1995) автором дописана наиболее краткая – Последняя глава (ее объем всего 15 стр.), в которой приводится только беглый перечень послевоенных событий, – тогда как основные работы, собственно и сделавшие имя Дьяконова известным во всем мире, именно были осуществлены им в эти послевоенные десятилетия. Тут можно видеть определенный парадокс. Но можно и особый умысел автора. – Ведь эта его книга, в отличие от других, посвящена прежде всего ранним воспоминаниям, уходящему прошлому, которое и нуждается в воссоздании. Не заслуживает специального внимания в ней (или его достойно, но во вторую очередь) то, что и так уже получило какое-то отражение, например, в трудах ученого, в работах того научного сообщества, к которому Дьяконов безусловно принадлежит. На момент написания последней главы автор стоит на пороге восьмидесятилетия – эту главу он считает, по-видимому, наименее значимой в своей книге, – а сам принцип отбора фактов, тут обозначенный, как представляется, остается тем же:
“Эта глава написана через много лет после остальных и несколько иначе, чем они. Она содержит события моей жизни как ученого и члена русского общества; более личные моменты моей биографии – а среди них были и плачевные и радостные, сыгравшие большую роль в истории моей души, – почти все опущены, если они, кроме меня самого лично, касаются тех, кто еще был в живых, когда я писал эту последнюю главу”
Выражаем искреннюю благодарность за разрешение электронной публикаци — вдове И.М.Дьяконова Нине Яковлевне Дьяконовой и за помощь и консультации — Ольге Александровне Смирницкой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Кроме нас пятерых и шестерых наших родственников, в нашей квартире непрерывно было еще много разного народу: бабушка Мария Ивановна, брат Борис, тетя Соня, Воля Харитонов. Появлялась Маули Вите — Мишина ровесница, дочка маминой близкой подруги по медицинскому институту. Биография ее была во многом странной. Во-первых, «Вите» была фамилией ее матери, а не отца, — и при том не «Вите», а «Витте» — фамилия была изменена из-за однофамильца, ненавистного реакционера, графа Витте. Во-вторых, когда Маули родилась, ее прогрессивные родители решили ее не крестить, и назвали Адой; а за сходство с лягушонком ее звали Маугли или Маулишкой. Но ее некрешеное состояние создавало трудности: не было крещения — не было и метрики, нельзя было, например, отдать Маулишку в гимназию. Поэтому перед самой революцией, в возрасте одиннадцати лет, она была крещена и во святом крещении названа Мариной: после революции она по документам стала, вместо Марины Арсеньевны Грачевой, числиться Маули Арсеньевной Вите.
Отец ее, вскоре после того как ее мать, в 1917 году, разошлась с ним, сошел с ума, и застрелил ее отчима в его служебном кабинете. Потом он вышел из сумасшедшего дома и более двадцати лет по всему Союзу преследовал семью своей бывшей жены — с целью… жениться на ее дочке от второго брака, Айни, и тем самым «исправить несправедливость». История Грачева — или, как сам он называл себя — Грачева-Борецкого-Стюарта, — материал для целой новеллы, которую я когда-нибудь напишу.
Мать Маули была коммунисткой, а сама Маули была комсомолкой; нравы комсомольцев того времени можно узнать из известного в свое время романа Богданова «Первая девушка». Они отвергали любовь и брак, как буржуазные пережитки; несколько иные взгляды Ленина, изложенные после его смерти Крупской и Кларой Цеткин, еще не успели проникнуть в среду комсомола; считалось, что половое сношение — род товарищеской услуги, которую следует оказывать друг другу. Так считала и Маули; результатом были бессчетные аборты, растрепанные нервы, попытки к самоубийству; меланхолическое равнодушие ко всему.
Любовь отнюдь не отрицалась поколением; но любовь, — как и все в послереволюционной жизни, — должна была быть свободна; брак должен был быть союзом двух любящих, скрепленным только любовью и только пока она длится. Иначе мы не могли себе и представить: все иное казалось крайней степенью безнравственности. Браков не по любви в двадцатые и тридцатые годы в моем поле зрения не было.
А если ты видишь, что та, кого ты любишь, что твоя жена полюбила другого — твое дело уйти, удалиться, не мешать ее счастью. Это было очевидно. И хотя сами слова «нравственность» и «безнравственность», как и «добродетель» и «порок», казались чем-то архаическим и чуждым нашему времени, понятия такие были.
Когда я прочел, лет тринадцать спустя, «Что делать?», то понял, что моя мораль, впитанная с воздухом моей юности и бывшая моим естественным состоянием, подобно тому как ходить, дышать и спать — шла от Чернышевского.
И мы осуждали Маули не за пестроту ее связей, а только за сожительство без любви. У меня уже были твердые понятия о любви и браке.
Как же с точки зрения этих понятий оценивалась семейная жизнь старших — например, самих моих родителей? Очень просто: они, конечно, любили друг друга. Впрочем, мне разумеется, было известно, что папа неравнодушен к хорошеньким женщинам. Всех женщин он разделял на три категории: хо или пупочка, ро, или мо, и мо-мо. Знал я, конечно, и то, что маму это тревожит, что она нарочно ходит с папой в гости к неинтересным ей людям, если она подозревает, что там будет очередная папина «пассия». Слышал я за стеной по поздним вечерам — плохо разбирая слова — что иногда, — хоть и не очень часто, — у папы с мамой были тяжелые объяснения. Но знал я и то, что мама очень любит папу, а папа — маму; раздельно они не мыслимы; и еще то я знал, что мама — ригористка в нравственных вопросах. И, зная это мамино свойство, я не допускал мысли, что у папы были когда-либо более серьезные увлечения, чем невинные флирты, проходившие у нас на глазах, иначе мама бы его не уважала, а значит, считал я, — не могла бы его любить. Я даже слышал, что папу называли на службе «Дон-Жуан бескорыстный», и это успокоило все мои возможные сомнения по этому поводу. Семью моих родителей я считал примером настоящей любви; у настоящих людей (а мог ли я сомневаться, что мои родители — хорошие люди?) не могло быть подпольных романов и измен.
К этому времени я уже знал мамину и папину историю. Они познакомились в Ташкенте, когда мама собиралась ехать учиться в Петербург, в Женский медицинский институт: Мама была тогда классной дамой в женской гимназии; было ей двадцать три года, а папе было двадцать; он только что вышел из гимназистов и тоже собирался в Петербург, учиться. Мама была далеко не первым папиным увлечением, но самым сильным. Насмотря на недовольство папиных родителей, они поженились, как только папа примчался в Петербург, жили бедно, по-студенчески, и дружно. Круг их составляла веселая студенческая компания, центром которой, вместе с папой, были два папиных неразлучных друга — умницы, остроумцы, такие душевные люди, что, когда кто-нибудь из них входил к нам, не только у папы и мамы, но и У меня все расцветало внутри: Лев Васильевич Ошанин и Глеб Никанорович Чсрданцев; были тут и мамины подруги по медицинскому институту — моя крестная, горбатенькая, милая тетя Катя, флегматичная Серафима Федоровна, непонятная мне Лидия Николаевна Вите (Маулишкина мама): и младшие мамины брат и сестра — Толя и Женя; и веселые «Пуличата» — Сергей, Надежда и Ольга Пуликовские (они все кончили плохо: Сергей был расстрелян в 1938 году, Надежда Пуликовская-Римская-Корсакова умерла 181 от чахотки, а Ольга случайно была занесена в эмиграцию, потом вернулась, — не имела возможности ни работать, ни учиться из-за анкеты, и в конце концов бросилась в Неву с Тучкова моста).
Во всяком случае, весь Дьяконовский дом с их мещанством и богатеньким самодовольством остался у моих родителей за бортом. Конечно, после свадьбы были сделаны все необходимые визиты по многочисленным папиным родственникам; но, когда гостеприимная хозяйка, провожая молодых в переднюю, говорила трафаретно-любезным голосом:
— Ну, теперь, конечно, Вы будете у нас бывать, — то моя правдивая и молчаливая мама только дважды прищелкивала языком за зубами:
— Цц-цц!
Откуда было петербургской родне знать, что на всем мусульманском юге это значит «нет»?…
Очень скоро родился Миша. Тянулись студенческие годы — после революции 1905 года все высшие учебные заведения были долго закрыты, и мама кончила Медицинский интститут только через восемь лет после поступления.
Мише было пять лет, когда мама проходила практику по заразным болезням в Боткинских бараках; она боялась заразить Мишу, и мои родители списались со старшими Дьяконовыми, которые жили тогда в Ростове-на Дону, с просьбой взять его к себе на время. Тс согласились. Потом пришла телеграмма, что это им неудобно, но мама была уже в дороге.
На вокзале в Ростове ее встретил дедушка, предварительно хорошо проинструктированный. Он приветливо поздоровался с ней (он хорошо относился к маме, — по крайней мере, когда не было поблизости Ольги Пантелеймоновны и тети Веры), затем… посадил Мишу в экипаж и уехал, оставив маму в полном недоумении, в обиде и в слезах, на вокзале. Она все же пришла, чтобы рассказать, какой у мальчика режим, но в тот же день уехала. Такие вещи не забываются.
Мама кончила институт в 1913 году и приняла врачебную присягу, но никогда не работала. Период студенческого бедного житья был уже окончен; «Тормаза Вестингауза» и другие переводы с английского и уроки были уже не нужны. Папа еще раньше окончил экономический факультет Политехнического института (где он не очень переобременял себя экономической теорией) и, с дедушкиной помощью, поступил на работу в Азовско-Донской коммерческий банк — серое новое здание у Арки на Морской (что теперь улица Герцена). Дедушка к этому времени был уже большой человек в банковском мире, и перед папой открывался широкий путь к преуспеянию. Он был против того, чтобы мама работала, а мамина инертность и мягкость мешали ей настоять на своем. Мечты о микробиологии остались мечтами, которые потом робко внушались мне.