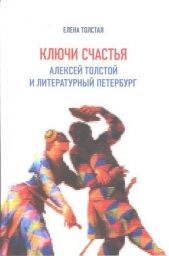Алексей Толстой. Красный шут.

Алексей Толстой. Красный шут. читать книгу онлайн
Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие. Но более всего Толстой был тружеником, и в русской литературе останутся два его романа, повесть о детстве и сказка, которую будут читать всегда.
Писатель и историк литературы Алексей Варламов, автор жизнеописаний Михаила Пришвина и Александра Грина, создает в своем биографическом повествовании удивительный образ этого необъятного человека на фоне фантастической эпохи, в которой "третьему Толстому" выпало жить.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Признаюсь, я похолодел. Я уже перестал понимать самый тон и характер разговора, который вел со мной Сталин.
— Но кто же эти шпионы? — спросил я тогда.
Сталин усмехнулся одной из тех своих улыбок, от которых некоторые люди падали в обморок и которая, как я знал, не предвещала ничего доброго.
— Почему я должен вам сообщать имена этих шпионов, когда вы обязаны были их знать? Но если вы уж такой слабый человек, товарищ Фадеев, то я вам подскажу, в каком направлении надо искать и в чем вы нам должны помочь. Во-первых, крупный шпион ваш ближайший друг Павленко. Во-вторых, вы прекрасно знаете, что международным шпионом является Илья Эренбург. И наконец, разве вам не было известно, что Алексей Толстой английский шпион?»
Действительно ли так Сталин думал или Фадеева испытывал, только Алексей Толстой умирал, и взять с него было нечего. Он лежал в Кремлевской больнице, где по соседству с ним находился Сергей Эйзенштейн. Так шутила над ними грозная тень.
«Я никогда не любил графа, — писал Эйзенштейн. — Ни как писателя, ни как человека. Трудно сказать почему.
Может быть, потому, как инстинктивно не любят друг друга квакеры и сибариты, Кола Брюньоны и аскеты? И хотя на звание святого Антония я вряд ли претендую — в обществе покойного графа я чувствовал себя почему-то вроде старой девы…
Необъятная, белая, пыльная, совершенно плоская солончаковая (?) поверхность земли где-то на аэродроме около Казалинска или Актюбинска.
Мы летим в том же 42-м году из Москвы обратно в Алма-Ату. Спутник наш до Ташкента — граф. Ни кустика. Ни травинки. Ни забора. Ни даже столба. Где-то подальше от самолета обходимся без столбика. Возвращаемся.
“Эйзенштейн, вы пессимист”, — говорит мне граф.
“Чем?”
“У вас что-то такое в фигуре…”
Мы чем-то несказанно чужды и даже враждебны друг другу. Поэтому я гляжу совершенно безразлично на его тело, уложенное в маленькой спальне при его комнате в санатории.
Челюсть подвязана бинтом. Руки сложены на груди.
И белеет хрящ на осунувшемся и потемневшем носу. Сестра и жена плачут.
Еще сидит какой-то генерал и две дамы. Интереснее покойного графа — детали. Из них — кофе.
Его сиделка безостановочно наливает кофе всем желающим и не желающим. Сейчас вынесут тело. Уберут палату.
Ночью же тело увезут в Москву. А утром уже кто-нибудь въедет сюда. Можно не заботиться о скатерти. Кофе наливается абсолютно небрежно.
Как бы нарочно стараясь залить скатерть, на которой и так расплываются большие лужи бурой жидкости. Нагло на виду у подножия стола лежит разбитый сливочник. Но вот пришли санитары. Тело прикрыли серым солдатским одеялом. Из-под него торчит полголовы с глубоко запавшими глазами. Конечно, ошибаются. Конечно, пытаются вынести его головою вперед. Ноги нелепо подымаются кверху, пока кто-то из нянечек-старух не вмешивается.
Носилки поворачивают к выходу ногами. Еще не сошли со ступенек первого марша, как в ванной комнате, разрывая тишину, полилась из крана вода. И почти задевая носилки, туда прошлепала голыми ногами уборщица с ведром и тряпкой…»
Едва ли можно найти более материалистическое описание смерти. И наверное тот, кто так от нее шарахался и не оказывал ей при жизни достойных знаков внимания, этого рассказа заслужил. Но не только его.
Я не имею в виду советский официоз — «Совет народных комиссаров Союза ССР и Центральный комитет ВКП(б) с прискорбием извещают о смерти выдающегося русского писателя, талантливого художника слова, пламенного патриота нашей Родины, депутата Верховного Совета СССР Алексея Николаевича Толстого», не говорю о статьях в «Правде» и «Литературной газете».
Я имею в виду отклики людей, Толстому гораздо более близких, хотя и разделенных с ним верстами и милями. Тех, от кого он ушел.
На следующий день после смерти Толстого Бунин писал в дневнике:
«24.2.45. Суббота. В 10 вечера пришла Вера и сказала, что Зуров слушал Москву: умер Толстой. Боже мой, давно ли все это было — наши первые парижские годы и он, сильный, как бык, почти молодой!
25.2.45.
Вчера в 6 ч. вечера его уже сожгли. Исчез из мира совершенно! Прожил всего 62 года. Мог бы еще 20 прожить.
26.2.45.
Урну с его прахом закопали в Новодевичьем».
И больше ничего в те дни Бунин в дневнике не писал.
Чисто по-толстовски, по-алексей-толстовски отреагировал на смерть своего друга Соломон Михоэлс.
«Михоэлс был болен и лежал в постели, когда позвонили и сообщили о смерти Толстого. Соломон Михайлович, бледный до какой-то серости, приподнял голову и сказал:
— Что ж! Провожать Алексея ты пойдешь одна. Прошу тебя сразу — сегодня достань мне рюмку водки и обещай мне не плакать…»
«Целая эпоха связана у меня с Алексеем — двадцать лет, наполненных серьезнейшим общением в искусстве, дружбой, приятельством, размолвками, мировыми, охлаждениями и вспышками привязанности, — писал Федин. — Все это вытекало из его характера — женского, коварно-лукавого, широкого и мелочного одновременно. Все соединенное с его образом неизгладимо, как сама жизнь. Гаргантюа, помещик, грубый реалист и циник, эстет и благородный русский сказочник, осмеятель символистов и сам символистический мастер, труженик, собутыльник— он жил с философией Омара Хайяма и ненавидел в жизни только одно— смерть… Его девиз был: делать все для того, чтобы делать свое искусство. Но для того, чтобы сделаться великим художником, ему недоставало нищеты. Дар его был много выше того, что им сделано.
Никто после него не займет его положения, потому что ни у кого нет его жажды занимать положение, в сочетании с великолепными данными для этого. Но Россия пожалеет не раз, что Толстой не поднялся на ту высоту, которую должен был занимать по природе. Художник в нем вечно бился с человеком за свои высшие права, но чересчур часто человек брал верх своими выгодными правилами.
И все же это было существо гармоническое. Толстой не любил душевного раздора и не терзался им, как не любил житейских неприятностей. В сущности он был “наслажденцем”, и главная его сила заключалась в плотском обожании жизни. Никто не умел так описать счастье и бездумную радость бытия, как он. Размышления он допускал в свое душевное хозяйство только тогда, когда мысль утверждала силу, радость, удовольствие. Среди русских писателей он был поэтому редкостью.
Я хотел бы, чтобы за упокой его души было выпито столько, сколько я выпил с ним во время наших пирований…»
Была и другая реакция на смерть писателя, своего рода vox populi. О ней рассказывала Валентину Берестову Людмила Ильинична Толстая:
«Не помню, где я записал ее разговор с управдомом. “Такой обеспеченный человек, все у него было, а умер”».
Вот уж точно, на что нечего возразить. но, пожалуй, самые верные слова для жизни и смерти Алексея Толстого, поднявшись над материальным и плотским, нашел Борис Зайцев:
«По таланту, стихийности (писал всегда с силой кита, выпускающего фонтан) в России соперников не имел. Прожил жизнь бурную, шумную, но и мутную, со славой, огромными деньгами, домом-музеем в Царском Селе, тремя автомобилями. Был ли душевно покоен? Не знаю. По немногому, оттуда дошедшему, благообразия в бытии его не было. Скорее тяжелое и неясное. Он любил роскошь, утеху жизни, но не весь был в этом.
В живых его нет. И все кажется, что его жизнь была очень уж мимолетной, такой краткой… От всего шума, пестроты, вилл, миллионов и автомобилей точно бы ничего не осталось. Блеснул, мелькнул, написал “Петра” с яркостью иногда удивительной, с удивительной не-духовностью и прицелом на современность (по начальству) — и нет его. О нем вспоминаешь с туманной печалью… теперь спит мирно. О бессмертии души много мы с ним говорили когда-то».
И последнее. В самом начале я привел пренебрежительный отзыв графа Игнатьева о графе Толстом. Но вот запись из дневника Федина в день похорон Алексея Толстого: «Помню, как подходя к гробу Алеши, Игнатьев опустился на колени и долго стоял с опущенной головой».