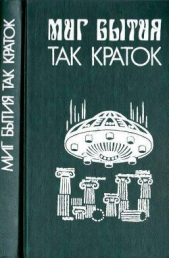Книга бытия (с иллюстрациями)

Книга бытия (с иллюстрациями) читать книгу онлайн
Двухтомный роман-воспоминание Сергея Снегова «Книга бытия», в котором автор не только воссоздаёт основные события своей жизни (вплоть до ареста в 1936 году), но и размышляет об эпохе, обобщая примечательные факты как своей жизни, так и жизни людей, которых он знал.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Я не знал, что надо извещать старшего пионервожатого, — повинился я.
— О чем и речь! Не знал, а должен был знать, — как сознательный пионер.
Мне пришла в голову отговорка, сгоряча показавшаяся безупречной.
— Но ведь если бы я пошел в райком просить разрешения, вы могли его и не дать.
— Очень возможно. Даже вполне вероятно, что не разрешили бы. Потому что учли бы то, что тебе и в голову не пришло: товарищ Буденный чрезвычайно занят конными делами и не может отвечать на посторонние вопросы, он в далекой командировке вне Москвы и вообще тяжело заболел… Ты захотел написать — это твое личное желание, нас оно не занимает. Но разрешить или запретить тебе это делать — наша проблема. Мы здесь для того и находимся, чтобы это решать. Учти на будущее.
— Учту, — пообещал я.
— Тогда будь готов!
— Всегда готов!
Я наконец отдал правильный пионерский салют. Алеша проводил меня в коридор.
— Как тебе Верочка? Выдающаяся комсомолка! — сказал он с восхищением. — Другой такой принципиальной и выдержанной в райкоме нет. Даже Гриша Цейтлин из горкома ее не переплюнет, а Гриша может как никто! Идут слухи, что на ближайшей конференции Веру выдвинут в секретари.
— И хорошо сделают, — согласился я.
— На днях я приду в школу, — пообещал Алеша. — Проведем торжественный пионерский сбор в честь письма товарища Буденного.
Паша Савельев выдержанно ждал меня на улице. Он был в шестом, а не в седьмом классе и большим активистом МОПРа еще не стал, но очень старался — и везде следовал за мной. Паша пришел в восторг, услышав о письме.
В тот же день все школьные активисты узнали о замечательном событии. Фима, самая проницательная голова нашей ячейки, категорически объявил: в письме имеется важнейшая подспудность. На самом деле конная армия уже полняком готова к походу на запад и ждет только приказа правительства — именно так следует понимать письмо товарища командарма!
— Мировая революция начнется весной, — доказывал он. — Осталось пережить зиму. Зимой войны не начинают, это факт. А весной — грянем!
Вся школа гордилась, что будущий командующий европейской освободительной армией известил нас в личном послании о наступлении мировой революции.
На торжественном сборе не радовался только Аркаша Авербух, самый авторитетный из наших мопровских активистов. Больше того: он был расстроен. Конечно, письмо пришло на мое, а не на его имя, — но я не мог подозревать Аркашу в зависти.
После собрания он пошел меня провожать — чтобы объясниться. На Косарке еще прошлой весной убрали последние лотки и не порубленные в голодное время торговые столы — теперь на их месте росли молодые деревца. Мы уселись на скамейку под одним из них — и Аркаша раскрыл мне свою душу. Всегда хмурый, с сумрачно прищуренными глазами, с ушами, торчащими перпендикулярно щекам как распахнутые крылышки, он говорил грустно, но коротко и увесисто.
— Фима ищет в письме тайну. Фима очень умный, но полный дурак, можешь мне категорически верить. Никакой мировой революции в эту весну не будет. Буденный струсил. Он же отговаривается, как ты этого не видишь?
Приказы правительства! По-настоящему захотел бы идти за кордон — сам бы велел правительству приказать. Что сильней — боевая армия или десяток вождей? Кто будет воевать — молодые солдаты или наши старики-подпольщики? Я осторожно сказал:
— Ты, кажется, перестаешь верить в наше революционное правительство?
— Я больше не верю, что весной начнется мировая революция, — сказал он печально. — Для того и согласился написать товарищу Буденному, чтобы наверняка удостовериться. Я тебе скажу страшную вещь, Сережа. Я был на открытом партийном собрании нашего завода. Всех приглашали — я тоже пошел. И о чем, ты думаешь, шли прения? Доклад секретаря партячейки назывался по-хорошему: «О международном положении и наших задачах». А говорили о том, что производственный план под угрозой, что в лавочку около завода сахар привезли, но свежий хлеб бывает не каждый день, что в помещениях много мусора — надо подметать аккуратней. И хоть бы кто остановился на неотложной задаче — помощи нашим истекающим кровью зарубежным братьям! Полное затухание революционного духа.
— У нас в школе революционный дух в разгаре, — возразил я.
— Потому я и прихожу. У вас легко дышать — настоящий боевой воздух. На заводе потянуло нэпманским гнильем.
Мы помолчали. Он о чем-то нерадостно размышлял, я не знал, как ему помочь. Он был прав — положение становилось все серьезней. Нэп торжествовал на каждой улице — сияли новым, электрическим светом шикарные магазины, шумели базары, каждый вечер на специальных площадках гремела музыка и самозабвенно танцевали парочки. Бороться с этим безобразием становилось все трудней. Нехороший торгашеский дух проникал даже в крепости революции — на фабрики и заводы. Он заговорил снова:
— Я сейчас каждый день читаю газеты. Жуткое положение! Ты знаешь, кто после смерти товарища Ленина главный секретарь у нас в партии?
— Этот, как его… Нет, забыл, Аркаша.
— Грузин Иосиф Сталин, вот кто, — тебе это нужно твердо знать, раз заменяешь меня в ячейке МОПРа. Так вот, этот чудак Сталин договорился до страшной вещи — в глазах темнеет от возмущения! Сам поставил крест на мировой революции.
— Я ничего не слышал, Аркаша.
— Очень жаль, что не слышал! Во всех газетах напечатано. Надо строить социализм в нашей одной стране — вот такой его план. Полный отказ от победы во всем мире. Теперь понимаешь, почему Буденный так осторожничает? От такого типа, как этот грузин, разве дождешься приказа о немедленном выступлении?
— Ну, он не один в правительстве, этот Сталин.
— Не один, конечно. И с ним борются — такие дискуссии развели! Но и он спуска не дает. Грызутся — а мировая революция погибает!
Подавленность Аркаши передалась и мне. Перспективы не было, жизнь упиралась в тупик. Некоторое время мы молчали. Из садика строителей, примыкавшего к Косарке, доносилась музыка — там кричали и топали ногами. Теперь такие гулянки устраивались каждый вечер — без билетов в сад не пускали. Было грустно от такого необузданного торжества.
Аркаша поднялся первый.
— Бывай, Сережа. На следующее бюро приду.
— Непременно приходи, Аркаша!
А письмо Буденного было заключено в полированную деревянную рамочку и долго висело над головой первого секретаря райкома комсомола. Потом оно исчезло — это вызвало разные слухи. Некоторые считали, что его просто сперли любители достопримечательностей, другие утверждали: его засекретили — из осторожности, чтобы о нем не узнали иностранные шпионы и не сделали вредных для нас выводов из собственноручного буденновского извещения.
Самые горячие были уверены: именно вражеские агенты его и похитили! И предлагали устроить общенародную облаву на шпионов — с заходом милиционеров в каждую подозрительную квартиру.
5
В нашей семилетней школе № 24 основным делом была общественная работа, а не учеба.
Уроки были как уроки. Главный предмет, обществоведение (а заодно — и русский язык), вела Варвара Александровна Пора-Леонович. Шептались, что она из сербских княгинь. Она не отрицала, что из сербов, а княжеского величия и ума у нее хватило бы и на немецкую императрицу. Вся школа ее любила и побаивалась, на обществоведение не опаздывали даже лентяи — она могла так взглянуть на опоздавшего, что сам выдающийся громобой Вася Визитей терял голос и только что-то жалко помекивал. Я ходил в ее любимцах. Во время перерывов она обнимала меня и, прогуливаясь по коридору, спрашивала, какие книги я прочел и что нового узнал.
Математикой командовала заведующая Любовь Григорьевна. Я математику не любил, особенно геометрию, и Любовь Григорьевна говорила, что ждала от меня большего, но, видимо, уже не дождется. Я не знал, чего она хочет. Я честно учил ее уроки и твердо знал, что больше, чем честности, ей от меня не видать.
Зато Лизавету Степановну, совмещавшую физкультуру с украинским языком, мы любили даже сильней, чем Варвару Александровну. О ней рассказывали еще больше. Точно было известно, что она начинала как балерина и несколько лет провела в студии при оперном театре. Мой отчим утверждал, что помнит ее на сцене: худенькая, изящная, стремительная, она хорошо смотрелась в народных, особенно украинских, танцах. Германскую войну прошла в санитарных батальонах, гражданскую где-то и как-то перебедовала, а с началом нэпа появилась в кабаре — пела и танцевала. Когда открылись школы (в гражданскую почти нигде не учились), в последний раз сменила специальность — стала учительницей. Одинокая Лизавета Степановна жила при школе. Она была веселой, в школьных коридорах ее всегда окружали детишки. Она даже бывала на наших сборах — из всех учителей приглашали только ее. И она распевала с нами пионерские песни, а мы (после сборов) с удовольствием подтягивали Лизавета Степановне ее любимые украинские романсы: