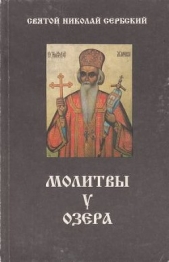Мусоргский
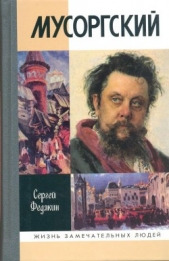
Мусоргский читать книгу онлайн
Это наиболее полная биография великого композитора-новатора. Дотошное изучение архивов, мемуаров современников и умелое привлечение литературных и эпистолярных источников позволили автору воссоздать объемный образ русского гения, творчество которого окружали глухое непонимание и далекие от истины слухи.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Пройдут годы. Надежда Николаевна будет иначе, лучше смотреть на «Баха». И все же внезапное ее «открытие» — не глубокий ум, но просто добрый «болтун», — так ли было оно беспочвенным?
И вот — «Тигра». Он же — «Юмор». Самый непроницаемый. Самый непонятный.
«Одно время мне даже казалось, будто он в самом деле начинает увлекаться ею, но теперь, вникая более, я этого не думаю, или он необыкновенно умеет скрывать свои чувства и сдерживать себя».
Это о Мусоргском и своей сестре Саше. Та наблюдательность, которая пронизывает этот дневник, заставляет поверить этой записи. Увлечение Мусоргский, видимо, начинал испытывать. И не дал развиться этому чувству. В дневнике Надежды Николаевны мелькнет еще один загадочный образ, что ее смущало в Юморе: «Его дружба с Едкостью и, главное, с той госпожой…» Цезарь Антонович — человек язвительный и не очень-то добрый. Но кто была «та госпожа»?.. С неизбежностью вспоминается одно: Мусоргский жил у Опочининых. И Александр Петрович, и Владимир Петрович принадлежали к тому своеобразному «сословию» — «певец-любитель», — без которого не могли обходиться музыкальные вечера. На каком-то вечере или в театре могла появиться и Надежда Петровна.
Весною 1870 года Саша Пургольд, кажется, почувствовала душевное движение Модеста Петровича в ее сторону. Сама она была серьезно увлечена. Но осенью, по возвращении из-за границы, когда ее чувство наталкивалось лишь на шуточки Юмора, донна Анна-Лаура стала испытывать горькие чувства. Надежда Николаевна все ясно видит. И записывает:
«Ее хандра, которая вообще довольно часто на нас обеих находит, но до сих пор у нее никогда так сильно не проявлялась, как у меня, в эти дни дошла до ужасных размеров».
К «Тигре» «Милый оркестр» относится без предубеждения, но с осторожностью:
«Между тем в человеке, к которому с ее стороны могла бы развиться страсть, если бы он ей показывал более участия, она видит холодность. Т. е. именно, не видя того, чего бы она желала в нем видеть, она утрирует и называет это чуть не ненавистью, говорит, что он и пение ее не любит, и что не для нее он приходит».
Наблюдательность Надежды Пургольд здесь усилена ее умением разъяснить:
«Насчет того, чтобы он чувствовал более симпатии ко мне, чем к ней, мне кажется это даже невозможно. Собственно по складу его ума и характера, я убеждена, что скорее ему бы могла понравиться Саша, т. е. он скорее мог бы влюбиться в нее, чем в меня».
Эти отношения и окрасили тот образ Мусоргского, который встает со страниц дневника. «Милый оркестр» готов самолюбие видеть чуть ли не главной чертой «Тигры»:
«Он хочет, чтобы с ним говорил только тот, кто считает за особенное удовольствие разговор с ним и кто сам начинает. То же и в других действиях: от излишнего самолюбия он никогда первый не вызовется принести своих романсов. Хотя знает, какое это удовольствие доставит, но он ждет, чтобы его попросили. Опять по той же причине он никогда не просит Сашу петь, хотя я уверена и знаю положительно, как высоко он ставит ее пение. Особенно когда он бывает один (когда все вместе — это еще случалось несколько раз, хотя Саша и уверяет, что это неправда, но я помню, что это бывало). В этом случае он приходит обыкновенно с целью исполнить какую-нибудь свою вещь, показать что-нибудь новое и потому желает, чтобы уже все внимание было обращено исключительно на него, хочет наполнить собой весь вечер».
Кажется, от Стасова или Балакирева Надежда Николаевна уже слышала, что Тигра не особенно умен. С этим она не согласна:
«У него ум своеобразный, оригинальный и очень пикантный. Но именно этою пикантностью-то он иногда злоупотребляет. Из желания ли порисоваться, показать, что он не такой, как все, а совсем особенный, или это уже так в его натуре. Первое вероятнее. В нем слишком много перцу, если можно так выразиться. Прозвище, которое мы с Сашей ему дали (как и всем остальным) — именно Юмор, я нахожу удачным, потому что юмор действительно составляет главное свойство его ума. Но в чем еще у него есть недостаток — это в теплоте, в мягкости, которой так много, напротив, у милой Искренности».
Тридцать первое августа: «Юмор» был в ударе — умен, интересен, замечательно пел… «Его отношение к Саше я все не могу хорошенько понять. Во всяком случае, мне кажется, что она его интересует и представляется ему какой-то загадочной, своеобразной, капризной, но сильной натурой. Но способен ли он ею увлечься, влюбиться, не знаю. Он самолюбив, страшно самолюбив!»
Пройдет немного времени, и наблюдательная Надежда Николаевна к последним словам припишет: «Это неверно; по крайней мере теперь я убедилась, что он знает ее хорошо и такой, какая она в действительности».
Мусоргский был слишком странен, настораживал. Ум — несомненный, но какой-то диковинный, «подвывихнутый». Мягкость? — есть, но весьма необыкновенно выражаемая, если сразу ее нельзя было заметить. А рядом — собственное трепетное чувство к Корсиньке, которое — не дай бог! — показать Тигре:
«Я уже было попалась Юмору на удочку еще прошлую весну. С ним ведь надо у-у… как ухо держать востро. А я показала ему слишком много, то есть слишком много моего расположения к Искренности, должно быть, уже начала немного рисоваться перед ним и перед собой, ну он и обрадовался, пошли намеки, шутки, которые мне были ужасно неприятны. Конечно, я постаралась их прекратить, но меня даже теперь иногда это сильно беспокоит, чтобы из этого не вышло чего-нибудь нехорошего. Его дружба с Едкостью и, главное, с той госпожой, да я наконец; и в нем самом не уверена, чтобы он не был в состоянии дурно про меня сказать, даже с „ухищрением злобы“ [109], а то для красного словца. А между тем, если бы вследствие этого наши отношения с Корсинькой испортились, для меня это было бы ужасно. Еще недавно мы с ним говорили, что нам невозможно поссориться».
Про «дурно сказать» — позднейшая приписка: «Это неверно, чтобы он был способен дурно сказать». Как только дело доходит до Тигры, попытка что-либо запечатлеть заканчивается вопросами и — опровержением. Только заметит: «…Я не могу положительно утверждать, что он не способен никогда и ни при каком случае сказать об нас за глаза что-нибудь дурное, отпустить какую-нибудь неприятную шуточку, подать повод к сплетне». И скоро припишет: «Теперь я убедилась, что на это он не способен».
Решающим во всех сомнениях, конечно, будет слово «Искренности». Корсинька внушает сестрам, что Мусоргский — хороший, честный человек. «Милый оркестр», разумеется, согласен. И все же: «Он с придурью, и эта придурь подчас бывает очень неприятной».
Точной характеристики Мусорянину не сумел дать ни опытный «Бах», ни вдумчивый «Оркестр».
Мусорянин ускользал ото всех. Правда, чуткая натура Надежды Николаевны всякий раз замечала, что Тигра лучше, нежели казался в ту или иную минуту. Но что он за человек? Каждый из содружества на Мусоргского смотрел совершенно особенным образом.
Стасов ценил не только талант, что выходит «изо всех пазов», но и чуткость к слову. Был уверен, что нужный текст Мусорянин — при надобности — состряпает. Кюи ценил за способность к мелодической декламации. Однажды, сочиняя статью об изданных романсах, засомневался в одной строчке у Корсиньки. И сразу же за советом — к Мусорянину, только его ответ мог разрешить сомнения. Для Балакирева Модинька чуть-чуть «без мозгов». Но Мусоргский-пианист был выше любых похвал. С ним, в четыре руки, можно было сыграть любое симфоническое произведение. Он и к знакомым звал Мусорянина, когда хотел их познакомить с нужным сочинением.
И все же чувствовалось: и Балакирев, и Кюи смотрели на Мусоргского, как взрослые смотрят на странного «немного ребенка». Потому часто не замечали и многих его открытий. Лишь Бородин и Римский-Корсаков (они и сами — при всем различии в возрасте — были у Балакирева в «учениках») к Модесту относились с полным вниманием. Бородин — с неизменным интересом, даже когда критиковал. Корсинька — с уважением и с особой восприимчивостью. В 1870-м они были очень дружны. И через многие годы, вспоминая эти счастливые времена, Людмила Ивановна Шестакова улыбнется в своих воспоминаниях: