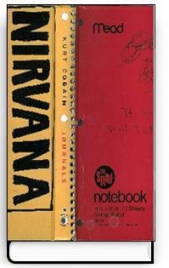Дневник 1953-1994 (журнальный вариант)

Дневник 1953-1994 (журнальный вариант) читать книгу онлайн
Дневник выдающегося русского литературного критика ХХ века, автора многих замечательных статей и книг.
***
В характере Дедкова присутствовало протестное начало; оно дало всплеск еще в студенческие годы — призывами к исправлению “неправильного” сталинского социализма (в комсомольском лоне, на факультете журналистики МГУ, где он был признанным лидером). Риск и опасность были значительны — шел 1956 год. Партбюро факультета обвинило организаторов собрания во главе с Дедковым “в мелкобуржуазной распущенности, нигилизме, анархизме, авангардизме, бланкизме, троцкизме…”. Комсомольская выходка стоила распределения в древнюю Кострому (вместо аспирантуры), на газетную работу.
В Костроме Дедков проживет и проработает тридцать лет. Костромская часть дневника — это попытки ориентации в новом жизненном пространстве; стремление стать полезным; женитьба, семья, дети; работа, постепенно преодолевающая рутинный и приобретающая живой характер; свидетельства об областном и самом что ни на есть захолустном районно-сельском житье-бытье; экзистенциальная и бытовая тяжесть провинции и вместе с тем ее постепенное приятие, оправдание, из дневниковых фрагментов могущее быть сложенным в целостный гимн русской глубинке и ее людям.
Записи 60 — 80-х годов хранят подробности методичной, масштабной литературной работы. Тот Дедков, что явился в конце 60-х на страницах столичных толстых журналов критиком, способным на формулирование новых смыслов, на закрепление достойных литературных репутаций (Константина Воробьева, Евгения Носова, Виталия Семина, Василя Быкова, Алеся Адамовича, Сергея Залыгина, Владимира Богомолова, Виктора Астафьева, Федора Абрамова, Юрия Трифонова, Вячеслава Кондратьева и других писателей), на широкие сопоставления, обобщения и выводы о “военной” или “деревенской” прозе, — вырос и сформировался вдалеке от столичной сутолоки. За костромским рабочим столом, в библиотечной тиши, в недальних журналистских разъездах и встречах с пестрым провинциальным людом.
Дневники напоминают, что Дедков — работая на рядовых либо на начальственных должностях в областной газете (оттрубил в областной “Северной правде” семнадцать лет), пребывая ли в качестве человека свободной профессии, признанного литератора — был под надзором. Не скажешь ведь негласным, вполне “гласным” — отнюдь не секретным ни для самого поднадзорного, ни для его ближнего окружения. Неутомимые костромские чекисты открыто присутствуют на редакционных совещаниях, писательских собраниях, литературных выступлениях, приглашают в местный “большой дом” и на конспиративные квартиры, держат на поводке.
Когда у Дедкова падал исповедальный тонус, он, исполняя долг хроникера, переходил с жизнеописания на бытописание и фиксировал, например, ассортимент скудных товаров, красноречивую динамику цен в магазинах Костромы; или, став заметным участником литературного процесса и чаще обычного наведываясь в Москву, воспроизводил забавные сцены писательской жизни, когда писателей ставили на довольствие, “прикрепляли” к продовольственным лавкам.
Дедков Кострому на Москву менять не хотел, хотя ему предлагали помочь с квартирой — по писательской линии. А что перебрался в 1987-м, так это больше по семейным соображениям: детей надо было в люди выводить, к родителям поближе.
Привыкший к уединенной кабинетной жизни, к неспешной провинции, человек оказывается поблизости от смертоносной политической воронки, видит хищный оскал истории. “Не с теми я и не с другими: ни с „демократами” властвующими, ни с патриотами антисемитствующими, ни с коммунистами, зовущими за черту 85-го года, ни с теми, кто предал рядовых членов этой несчастной, обманутой, запутавшейся партии… Где-то же есть еще путь, да не один, убереги меня Бог от пути толпы ”
…Нет, дневники Игоря Дедкова вовсе не отрицают истекшей жизни, напротив — примиряют читателя с той действительностью, которая содержала в себе живое.
Олег Мраморнов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Думаю, что надо еще написать о Загребе. Но еще не все улеглось, и я, например, все еще не знаю, насколько искренним был с нами Предраг Матвеевич и сколько в этой искренности и дружелюбии было игры и самопоказа? Мне хочется верить, что не больше того, что можно спокойно простить как слабость. Но все равно тут какая–то для меня трудность. И главная между тем надежда, потому что эти разговоры и сам характер общения были самыми светлыми, т. е. не формальными, не мнимыми, а подлинными. Во всяком случае, я воспринимал так.
4.7.82.
<...> После солнечного теплого мая — серый, неустойчивый июнь с перепадами температур и настроения; июль пока ему в тон. Идет мировой чемпионат по футболу; мы с Никитой не пропускаем ни одной трансляции; наши играют в расчетливый государственный футбол, пуще всего боясь уронить престиж нашего великого государства.
Последние недели мир спокойно смотрел, как лилась кровь в Ливане. Наши газеты снабжают читателей полуправдой, по–прежнему считая их недалекими и беспамятными; что ни сболтни — поверят.
По телевидению показывают “митинги протеста” на заводах и в конторах; в каких–то залах или цехах стоят люди, держат транспаранты с аккуратно выведенными буквами (старались! знали, что снимать будут!), замкнутые, ничего не говорящие лица, и с трибуны кто–нибудь чистенький и гладкий читает с листа “гневную речь”, клеймит позором, и все это ежевечерне идет в эфир... Опять проформа, обозначение гнева и возмущения, наскоро поставленные короткие спектакли и горькое ощущение от того, что видишь результат дрессуры... Раньше я был убежден, что все стоящие под теми транспарантами понимают, в чем они участвуют и какова цена произносимым речам, и что они на этот счет не обманываются. Теперь я стал думать, что многие принимают все это за чистую монету; случись что, и такие же митинги примутся осуждать новых “врагов народа” и т. д. Светоний, оказывается, сказал, что убитый враг хорошо пахнет, но еще лучше пахнет убитый согражданин...
Читаю “Народоправство” за семнадцатый год и кое–что (в том числе статью Вернадского о Гос. Совете) из “Культуры и свободы” за шестой год. Это пригодится мне, когда примусь писать о Залыгине. Должен вот–вот приняться, тем более что этого хочется: пора. Впечатление от чтения: историю революции знаем плохо; т. е. народ наш этой истории себе не представляет; знающие вымирают, новым — достаточно популярной схемы; и еще — там, за текстами, за идеями и страстями, — богатство жизни, ее пестрота, неоднородность состава, явная неприведенность к единому осушающему, измельчающему знаменателю; нечто противоположное “дрессуре”. <...>
“Литгазета” статью о Маканине не печатает и молчит.
Думал о том, что в нашем обществе много нетерпимости (после статьи в “ЛГ” О. Мороза об “экстрасенсах”, где он приводит письма читателей), нетерпимости всякой, притом злобной, даже ожесточенной. Это потенциальная разрушительная сила, способная развернуться... Нетерпимость как–то связана с тем, что люди мелки, души мелки, и при, возможно, значительных целях преследуются цели корыстные и узкие...
11.7.82.
<...> Пытаюсь писать какие–то страницы для книжки о Залыгине. Читаю Мочалова о Вернадском; впервые читаю повести Петрова–Водкина — какая–то утраченная ныне простота и естественность, бережное внимание к истинно существенному; впервые открыл “Материалы к истории Костромы” Л. Скворцова (1913), попросил у Негорюхина; за годы советской власти не было издано по истории Костромы ничего подобного; будто не надо; не говорю уже о том, что книга Скворцова находится по полиграфическому исполнению в разительном контрасте с печатной продукцией Ярославля, бедной и бездарной. Старец Федоров радел об “общем деле”, и многое вокруг ему сильно не нравилось (кладбища при церквах в забросе и т. д.). Мы–то его сейчас издали, т. е. “допустили” в современный российский мир, и он как бы оглядывается в нем... Переносимо ли это для него оглядывание? Про кладбища молчу; храню в памяти давние новосибирские впечатления: гуляем в парке, и знакомый молодой инженер говорит, что под той концертной эстрадой похоронен его дедушка; чтбо кладбища, до них ли, какое “отческое” дело возможно, когда старый русский город — из основных русских городов, старая русская земля лишены возможности издавать книги, хранящие память о предках, о собственной человеческой истории, об “отцах”...
2.8.82.
<...> По Костроме ходит анекдот о “вырезке” из Продовольственной программы.
Вчера пришла верстка из “Лит. газеты” “блока” о маканинской “Предтече”. Я оказываюсь в невыгодном положении; со мной спорят, а мне не возразить; приходится смириться; пусть их... Но по прошествии времени чувствую, что вещь Маканина — проходная; сама плод “кишения” и сугубо нынешней суеты.
Прочел “Дым” (в Шабанове) и “Новь”, чему очень рад. Говорил себе: не читай, нужно читать другое, а оставить не мог. Бесстрашный был писатель: брался за неостывший — куда там! — горячий материал. И какая удивительная для наших дней сосредоточенность на центральных персонажах исторической жизни — к тому же не явной, даже подпольной. И какая свобода в обращении со всеми избранными фигурами — всем “по заслугам”, и никаких обязательств на сей счет ни перед кем! На “Дым” обиделись и справа, и слева и, может быть, были правы, но сейчас ярче всего чувствуешь не это, не об этом думаешь, а о том, какая там кипит словесная невнятица, какая игра и сколь по–современному характерна эта болтовня, эта трата энергии, не ведающей пути, а еще более — и не желающей его ведать; словно хотят что–то выговорить, а не могут. Старое зеркало, а все еще ясное, и нам посмотреться не грех.
Вот были славные дни посреди июля — мы с Никитой съездили на шесть дней в Шабаново, и — вовремя: как раз на уборку сена. Таисия Алексеевна пять утр, припадая на больную ногу, выкашивала овинник, а потом мы всем миром — я, Никита, Наташа и Света — под руководством бабы Таси — переворачивали, сушили, складывали в копны, наутро опять сушили, таскали ближе к дому и т. д., и наконец я забрасывал вилами на поветь. Жаль, не умею косить, а в горячую пору — учиться не дадут, да и неудобно траву портить. Часов в пять каждый день Федор Яковлевич усаживался на табурет и, макая молоток в консервную банку с водой, обстукивал косу, и удивительно: рука не дрожала и била точно по краю. Как же удобно он устраивался, как сподручно все располагал, и это словно придавало ему форму, не позволяя физической слабости брать над ним волю. Во всем чувствовался старый мастеровой, твердо знающий, что и как делать, и в деле своем не ведающий колебаний и сомнений. Такое — всегда идеал работы: так и писать бы надо: твердо и точно оббивать косу, зная, что никто никогда не упрекнет, не будет досадовать и поминать лихом.
Вышли из леса, увидели шабановские крыши, тонущие в травах, и через те травы — до плеч моих, а Никита с головой — поплыли, и хорошо было за полдень, и солнце пекущее, а то быть бы нам мокрыми от росы... Страшно подумать, — а впрочем, не так уж и страшно, привыкаешь так думать, — в пятьдесят девятом впервые оказался я в Шабанове, и вот тогда — в сравнении с нынешней пустотой — людно все–таки было, и в лугах косили, и торчали стога, и деревенская улица была как выбрита, а на берегу Обноры поливали капусту... Сколько потом приезжал — все зарастало и зарастало, и спилена давно старая черемуха под окнами бубновского, родного мне дома, и вымерзли дочерна яблони, и не на что повесить качели, и знакомые тропы и дороги то ли не узнать, то ли не найти... И девочки боялись спускаться вниз по старой дороге от бывшего Орлова к речке по имени Ельник, а какая веселая, пятнистая от солнца была прежде та дорога, наезженная телегами, нахоженная людьми, а сейчас — без единого человеческого следа, без твердого пятнышка прежней тропы, перегороженная рухнувшими елями и в довершенье пугающая близкими кабанами...

![Контрабанда из созвездия Эридана[журнальный вариант]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)