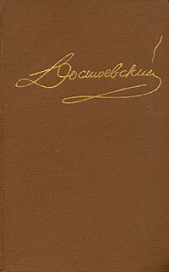Публицисты 1860-х годов
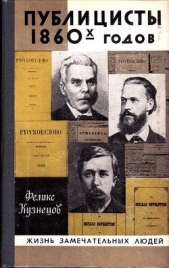
Публицисты 1860-х годов читать книгу онлайн
Эта книга о публицистах, чья творческая судьба была связана с революционно-демократическим журналом "Русское слово" (1859-1866) - Г. Благосветове, В. Зайцеве, Н. Соколове.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Истинным патриотом Зайцев считает того, «кого мы, — пишет он, — люди шестидесятых годов, с гордостью называем нашим вождем», — Добролюбова. «Умирая после четырех лет геркулесовой борьбы от чахотки, спасавшей его от каторги, на которую пошел друг и сподвижник его Чернышевский, он выливал всю свою душу в чудно простых стихах:
Милый друг, я умираю, Оттого, что жил я честен; Но за то родному краю, Верно, буду я известен!
Это ли не святая любовь? — спрашивает Зайцев. — Молодая жизнь погибнет, но боец со смертной раной в груди, до последней минуты не отдающий меча, счастлив мыслью, что родина оценит его службу ей!» (1878, № 9).
Излюбленный жанр Зайцева — политический памфлет. Основной герой его памфлетов — самодержавие и слуги его.
В сатирах Зайцева воссоздается облик полицейски-шпионского государства, где задушена мысль, слово, чувство, где власть сосредоточена не в Государственном совете и не в Правительствующем сенате, а «просто в III отделении», где все подчинено «государственной инквизиции». Зайцев посвящает целую серию статей деятельности III отделения. Они идут с продолжением в шести номерах под общим названием «Нечто о шпионах». В этих статьях обнародован немалый фактический материал о тайных шпионах III отделения, а главное — с блистательным искусством показана неразрывная связь между деспотизмом, отрицающим всякую законность, и «шпиономанией».
«Тирания и шпионство всегда были неразлучны, — утверждает Зайцев. — Где являлся тиран, там, как грибы, росли и шпионы. Древние греки, специально занимавшиеся изучением и описанием интересной породы тиранов, отметили, как существенный и характерный признак тирана, — подозрительность. Он похож на сумасшедшего, страдающего вечным страхом, преследуемого ужасным кошмаром. Сумасшедшие под влиянием этого тяжелого чувства часто вешаются и топятся; тиран же, имея власть и деньги, думает помочь себе свирепостью и наймом бесчисленных шпионов. Шпион — это единственная надежда, единственная опора и прибежище, друг и наперсник тирана. Поэтому там, где есть тиран, неизбежно будут шпионы. Когда тирания сменила гражданскую свободу в Риме, с первым же императором возникло и целое сословие доносчиков. Коринфский тиран Периандр считался изобретателем полной и усовершенствованной системы тирании; ему приписывалось изречение: «Казнить не только совершивших преступление (против тирании), но и желающих совершить его». И действительно, это правило легло навсегда в основание тиранической системы. Преследование мыслей, намерений, желаний, симпатий и чувств стало ее задачей» (1877, № 6).
Продолжая традиции революционно-демократической журналистики шестидесятых годов, Зайцев печатает в «Общем деле» серию язвительных фельетонов, посвященных «журнальному стаду», — таких, как «Неистовый холуй, или Манифест лакеизма», «Холопские речи», «Еще о холуях», «Образцы казенного красноречия», «Журналисимус граф Суворин-надпольный» и т. д.
«Я холуй, и ничто холуйское мне не чуждо» — таков эпиграф к фельетону «Неистовый холуй, или Манифест лакеизма» с характерным подзаголовком: «Попурри из российских публицистов». «Да, положа руку на сердце и взяв православного бога в свидетели, мы громко и торжественно объявляем: мы холуи и гордимся этим! — так начинает Зайцев свое сатирическое обозрение либеральной русской прессы. — Холуй — это тип православных и императорских добродетелей — смиренномудрия, терпения и любви. Эти три слова в нашем девизе заменяют свободу, равенство и братство».
Заслугой Зайцева было то, что он первым разоблачил провокационный характер журнала «Вольное слово», организованного за границей печально знаменитой «Священной дружиной» для подрыва изнутри освободительного движения. Вначале Зайцев задал «Вольному слову» вопрос, как оно относится к министру внутренних дел Игнатьеву («Общее дело», № 44). А когда «Вольное слово» уклонилось от отпета, сославшись на то, что «деятельность министра внутренних дел настолько обширна, что не может быть охарактеризована в двух словах», Зайцев напечатал в следующем номере фельетон под выразительным названием «Хлоп!», где показал связь «Вольного слова» с правительственными кругами. А через несколько номеров раскрыл и организатора «Вольного слова» Л. П. Мальшинского, агента III отделения.
Варфоломей Зайцев первым в нелегальной прессе заговорил и о «Священной дружине», разоблачив в статье «Белый террор» (1881, № 44) террористический характер этой черносотенной тайной организации. Его политическая публицистика убеждает нас, что он остался типичным шестидесятником, всецело воспроизводящим то «широкое отрицание» социальных, политических и нравственных порядков самодержавно-крепостнической России, которое было свойственно «нигилизму 60-х годов».
С уничтожающим, презрительным сарказмом говорит Зайцев о российском либеральном «обществе», о реформистских иллюзиях, об идее «либеральной конституции». Одна из его статей — «Ввиду валуевской конституции» (1877, № 6) — посвящена слухам о том, что якобы такая «конституция» уже сочинена действительным тайным советником Валуевым.
Зайцев говорит, что в принципе в этих слухах ничего невозможного нет: держимордство в мировой истории не раз доходило до такого банкротства, что ему «не оставалось ничего больше, как завопить, обращаясь к обществу: «Батюшки, посадите же меня, наконец, на цепуру!..» Но он предупреждает, чтобы общество не обольщалось этими слухами, потому что если самодержавие и скажет «пас», то это будет «пас коварный», это будет «увенчание здания» подделок и фальсификаций, которыми ознаменовало себя нынешнее царствование.
По убеждению Зайцева, — он может выражать теперь эту мысль открыто, а не с помощью недомолвок, как в подцензурном «Русском слове», — самодержавно-крепостнический строй исключает путь реформ сверху. Да, царское самодержавие «есть корень и источник всего зла, но не реформ от него ждут, а требуют его немедленного удаления» (1878, № 18).
В одной из своих статей Зайцев специально обращается к вопросу: «Революция или реформа?» Он спорит с Лассалем, который «проводил… параллель между реформой и революцией не в пользу последней». По Лассалю, указывал Зайцев, реформа есть переворот мирный, а революция — движение насильственное, в этом вся их существенная разница, и если так, то понятно, что революция есть зло в сравнении с реформой. Однако «разница между революцией и реформой не в средствах только, а в цели, чем обусловливается и различие средств. Революция есть совершившийся или совершающийся переворот общественных условий; так как она необходимо нарушает интересы предержащих властей и дирижирующих классов изменяемого порядка и так как самое убедительное красноречие еще никогда не вынудило ни одного вора возвратить похищенный новый платок, то понятно, что мирным способом революция не может совершиться» (1881, № 42).
Для реальных, конкретно-исторических условий жизни России той поры это положение было бесспорным. Зайцев выступает здесь как последовательный революционный демократ, но, убеждая, что Россию может спасти только революция, Зайцев не высказывает надежд на близкую возможность ее. Отсюда его пессимизм, который явственно звучит в статьях «Общего дела». Как справедливо свидетельствует Христофоров, Зайцев начинал сотрудничество в «Общем деле» не без грустного скептицизма: «Удрученный тяжелыми воспоминаниями, оскорбленный апатией и неподвижностью русского общества, он порой переставал верить в его современных представителей и с негодованием говорил: «Оставьте всякую надежду, рабство в крови их!»
С болью говорил он в статье «Наш и их патриотизм» о своей родине — «одной из самых обездоленных частей земного шара, населенной одним из самых забитых и отсталых человеческих племен». Этот мотив — мотив забитости, отсталости, терпения народных масс — ив «Общем деле», как когда-то в «Русском слове», на первых порах для Зайцева основной. В бесцензурном журнале Зайцев пишет об этой беде своей отчизны в полный голос, он не скрывает своего гнева, отчаяния, тоски. «Насчет терпения и говорить нечего. Это наша коренная добродетель, в которой мы за пояс заткнем всех ослов и дворняжек» (1887, № 4), — заявляет он. Именно этой «добродетелью» объясняет он столь продолжительное существование на Среднерусской возвышенности ископаемого чудовища — ca.v Державин: «…плоскость была населена лилипутами, очень богатыми пенькой и лыком, но еще более богатыми терпением и смирением» («Ихтиозавр и люди», 1878, № 10).