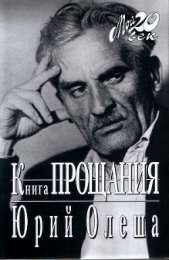Грустная книга

Грустная книга читать книгу онлайн
На первый взгляд, у Софьи Станиславовны Пилявской (1911–2000), замечательной актрисы и ослепительно красивой женщины, была счастливая судьба. Совсем юной она взошла на сцену МХАТа, ее учителями были К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко, ее любили О. Л. Книппер-Чехова и семья Булгаковых. Публика восхищалась ее талантом, правительство награждало орденами и званиями. Ее ученики стали выдающимися актерами. В кино она снималась мало, но зрители помнят ее по фильмам «Заговор обреченных», «Все остается людям» и «Покровские ворота». Однако эта блистательная жизнь имела свою изнанку: удручающая, тщательно скрываемая бедность; арест отца в страшном 37-м; гибель любимых брата и сестры на войне; череда смертей — муж, мама, друзья, коллеги… А потом настали новые времена, к которым надо было привыкать. Но приспосабливаться она не умела… Этой книге, наверное, подошло бы название «Театральный роман» — не будь оно уже отдано другой, той, что читал когда-то вслух гениальный автор немногим избранным друзьям, среди которых была и Софья Станиславовна Пилявская. Но и «Грустная книга» — тоже подходящее название. Потому что, написанная живо и иронично, эта книга и в самом деле очень грустная. Судьбы многих ее героев сложились весьма трагично. И, тем не менее, в воспоминаниях С. С. Пилявской нет ощущения безысходности. Оно вообще не было свойственно ей — мужественной и благородной женщине, настоящей Актрисе.
Издательство благодарит за помощь в работе над книгой К. С. Диадорову-Филиппову, Б. А. Диадорова.
Дом-музей К. С. Станиславского и лично Г. Г. Шнейтер.
Дизайн серии Е. Вельчинского.
Художник Н. Вельчинская.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я увидела у окна Ливанова с блокнотом, он тихонько сказал: «Поразительное лицо, такими святых пишут». И действительно, лицо было необыкновенно тонкое, спокойное, и седые волосы светились вокруг, как нимб.
Вспомнилось, как Мария Петровна так еще недавно — осенью 1942 года — рассказывала про то, как ее награждали орденом Трудового Красного Знамени вместе с большой группой военных. Они отвечали «Служу Советскому Союзу», и она спросила, можно ли ей так сказать. И сказала. Все зааплодировали, и ей было приятно.
А сейчас перед нами в гробу лежала узенькая фигурка Этой изумительной артистки, приумножившей славу Художественного театра. «Ее образ, незабвенный для всего Художественного театра, в особенности же для нас, «стариков», сохранится во всей своей нетленной чистоте, поэтичности и обаянии», — это слова Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой.
Вот так печально закончилось для нашего театра лето 1943 года.
Я продолжала писать в разные инстанции с просьбой сообщить о судьбе отца и дать право переписки с ним.
Одну из просьб направила в Прокуратуру СССР. До войны формальные ответы — 10 лет без права переписки — обычно приходили через три-четыре месяца. В этот раз довольно скоро — недели через две, я получила повестку, где было написано, что мне надлежит явиться к трем часам на такой-то этаж, в такой-то кабинет, при паспорте. Маме я ничего не сказала, знал муж.
В проходной мне выдали пропуск и указали, куда идти. Найдя нужный кабинет, я постучала и услышала: «Да, войдите». В узком кабинете странной формы, под углом к двери, за небольшим столом сидел офицер НКВД (чин от волнения я не разобрала). Он указал мне на стул против себя и какое-то время молчал. Потом сказал, не то спрашивая, не то утверждая: «Вы артистка». Я промолчала. «Вы все пишете… Вам же ответили, и не один раз — десять лет без права переписки». Я возразила, что мера наказания не соответствует служебному положению отца. Десять лет дают женам и родственникам. Он еще что-то говорил о моей напрасной настойчивости, а я смотрела на серую папку на его столе — на ней было написано: «Дело С. С. Пилявского».
Мне вдруг поверилось, что я узнаю хоть что-нибудь. Человек этот встал со словами: «Я сейчас, подождите». Я тоже встала, чтобы идти к стулу у дверей. «Сидите здесь». — «Нет, разрешите, я тут». И села у двери, довольно далеко от его стола. Он вышел, замок щелкнул, и я осталась одна в кабинете. Я неподвижно сидела, не глядя на стол, где лежала папка. Очень хотелось курить, но я не решилась. Сидела очень долго. Мне было страшно — и за себя, и за маму, и за мужа. Казалось, что меня проверяют, или забыли, или уже забрали.
Наконец опять щелкнул замок, офицер вошел и молча опять указал на стул против себя. Какое-то время он молчал, а потом очень тихо сказал: «Я ничего не знаю, вот». Открыл папку — в ней было пусто. «Вы логично рассуждаете, я постараюсь узнать, если смогу». И очень тихо, написав свою фамилию и телефон: «Позвоните мне». Я так же тихо спросила: «Месяца через три?» — «Через месяц». И громко, начальственным голосом: «Ваш пропуск? Идите».
Когда я приплелась домой, муж уже ушел на спектакль. Слава Богу, в тот вечер я была свободна.
Через месяц я позвонила по тому номеру. На мою просьбу попросить такого-то резко ответили: «Не работает». Записку с номером я уничтожила. Мне было тоскливо и жутко.
…Осенью перед самыми ноябрьскими праздниками театр отправлял на фронт большую группу артистов для обслуживания частей ВВС Западного фронта. В состав бригады входили: Андровская, Тарасова, Молчанова, Калиновская и я; из мужчин — Станицын, Прудкин, Боголюбов, Дорохин, наш вокальный дуэт, скрипичный квартет, гитарист Кузнецов. Мы должны были лететь под Смоленск — его только за три-четыре дня до этого отбили у фашистов, — там дать большой парадный концерт и на следующий день разделиться на две бригады для разных маршрутов. Мы улетали с небольшого военного аэродрома, почти в черте города. Утром спецавтобусом приехали прямо на летное поле. Вышли, сложили свои вещи и театральный микробагаж и стали ждать. Сопровождающий нас военный ушел в домик на этом же поле. Довольно близко стоял не очень большой самолет. Из домика вышли два богатырски сложенных летчика в накинутых на плечи кожаных регланах. По мере их приближения послышался легкий перезвон — это звенели их ордена и медали.
Подошли, поздоровались с нами, взглянули на багаж, и между ними начался такой диалог: «Сёма, как думаешь — взлетим?» — «Так надо взлететь». — «А ну, пересчитай их?» Сёма нас пересчитал. И тут другой — не Сёма — скомандовал: «А ну, на посадку, товарищи артисты!» И мы, подхватив свои чемоданчики (а провожающий военный — театральный багаж), пошли к самолету. Поднялись по крутой лестнице — нам галантно помогали хозяева — и оказались внутри. Тут обнаружилось, что, кроме нас, в самолете (это был грузовой ИЛ) летят четверо военных. Около них были сложены какие-то агрегаты, стволы которых уходили в открытые в потолке отверстия. Мы стали устраиваться вдоль стенок на железных скамьях. Кто-то из наших дам спросил что-то вроде: «А это зачем?», — указывая на агрегаты. «А это так, для чистого воздуха», — хохотнул Сёма. Это были зенитные орудия.
Летели мы около двух часов вполне благополучно, хотя зенитчики все время поворачивали свои орудия, просматривая небо. Были уже сумерки, когда мы прилетели на место. Странно, но во время полета не было страшно — так сильна была уверенность в наших летчиках и вообще в военных.
Когда мы приземлились и нас встретили, нам показалось, что встречающие немного нервничают, а летчик и штурман, которых мы пригласили на концерт, сказали: «Нам обратно». И еще встречающим что-то вроде: «Вы их скорей отсюда». Нас, действительно, вежливо поторопили сесть во фронтовой автобус, мы и осмотреться толком не успели.
Довольно скоро нас довезли до окраины Смоленска. Вокруг все было разрушено. Остановились у дома без одной стены, так что была видна часть внутренних помещений. Недалеко стоял целый двухэтажный дом, правда, почти без стекол. В нем нам и предстояло давать концерт. К нашему приезду в трехстенном доме было приготовлено два помещения для женщин и мужчин. Выйдя из автобуса, мы увидели вдоль дорожек по обеим сторонам протянутую проволоку и на ней плакатики с одним словом — «мины». Нас предупредили, что ходить надо очень осторожно, не отклоняясь в сторону.
Мы начали готовиться к концерту. Было уже почти темно, когда нас повели к «концертному зданию». Все оно было каким-то зыбким, особенно расшатанной была широкая деревянная лестница, ведущая в «зрительный зал». Там уже плотно сидели и стояли солдаты и офицеры. Один угол был отгорожен двумя плащ-палатками, туда нас и провели под приветственные аплодисменты зрителей. Еще до этого нас предупредили: в случае налета не разбегаться, соблюдать спокойствие, нас проведут в укрытие.
Концерт начался и благополучно дошел до середины. Объявили Андровскую и Станицына, они должны были играть сцену из «Волков и овец» Островского — обольщение Глафирой Лыняева. Как только Ольга Николаевна произнесла первую фразу: «Я хочу выйти замуж», потух свет и в темноте раздался голос: «Воздух, все по местам».
Мой муж заранее предупредил меня: «Если что, я буду с Андровской — она в первый раз, Зуева храбрая, а ты будь рядом». Мы все, сбившись в кучу, задержались в темноте, чтобы не попасть в спешащую толпу военных. Дом ходил ходуном. Успели переобуться. В одной руке подол концертного платья и туфли, а другой мы с Ольгой Николаевной ухватились за Дорохина, и он повел нас, освещая пол маленьким фонариком, но никто за нами не пришел. Когда мы выбрались из этого дома, вокруг стало светло — немец повесил «люстры», то есть светящиеся ракеты. С земли стреляло все, даже наганы. Стоял сильный гул и от моторов, и от стрельбы. Кто-то из военных крикнул нам: «Скорее в щель, прямо по этой дорожке». Мы побежали. Опять стало темно, стрельба и гул не прекращались. Дорожка привела нас к какой-то яме, в ней были ступеньки, и мы, задрав еще выше свои подолы, стали спускаться в эту щель. Там уже были Прудкин, Молчанова и Станицын, остальных мы не видели. Я ударилась ногой обо что-то твердое, и мы с Андровской на это твердое сели — спина к спине. Снаружи отбивали второй заход фашистов. Сидели довольно долго, пока не смолкли стрельба и взрывы. Когда осветили фонариком наше убежище, выяснилось, что мы «спасались», сидя на невзорвавшейся бомбе, правда, «начинка» была вынута.