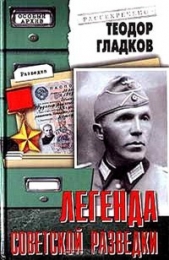Звать меня Кузнецов. Я один

Звать меня Кузнецов. Я один читать книгу онлайн
Эта книга посвящена памяти большого русского поэта Юрия Поликарповича Кузнецова (1941—2003).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я помню в 80-м году он прочитал мне целый цикл любовный… Говорит: «Товарищу Тютчеву тут делать нечего!..». Только я сел, он тут же мне прочитал: «Наше ложе не здесь, а на небе! / Наши вмятины глубже земли!».
— Ну да, здесь тоже эти векторы — верх, низ…
— Да, эти векторы при первой встрече очень запомнились… Так он про поэзию говорил. Не любил переносов в строке, когда «чтобы» появляется, морщился, если попадались причастные или деепричастные обороты. Считал, что строчка должна быть законченной, самодостаточной.
Ещё он говорил о том, что и как поэт должен заимствовать у других: «Надо уметь взять так, чтобы не казалось, что ты взял…». Между прочим, это и есть один из признаков настоящего поэта: уметь преобразовать образ, строку, мотив так, чтобы возникало ощущение, что это в большей степени твоё, чем чужое, что это скорее у тебя взяли, чем ты взял. Так он использовал повозку слёз в поэме «Четыреста»… У Эсхила она есть в трагедиях. А ещё есть такой греческий поэт Гегесипп. Кузнецов однажды говорит: «Смотри…» — и прочитывает своё стихотворение «Памяти космонавта»:
А потом поднимается, достаёт с полки сборник Гегесиппа и читает стихотворение оттуда.
Я говорю: «Один в один!». Он: «Во!» (то-то, мол). И вот стихотворение о космонавте получилось очень современным, этот образ настолько хорошо сюда подходит, что даже лучше, чем это было у самого Гегесиппа.
Потом про Державина… Про Державина Юрий Поликарпович несколько раз повторял: «Мощь! Мощь!». Это я совершенно точно помню. «Державин — самый великий русский поэт». Державин, как считал Кузнецов, по дару, по мощи таланта превосходит Пушкина. Даже так говорил: «Пушкину до него далеко…». Я был поражён этим признанием. «Ну, тут… язык свою роль сыграл…». Мол, из-за устаревшего языка Державин не имел такой славы, хотя все понимали, что это величина для русской поэзии…
Потом, конечно, запомнилось (это всё было ещё в первые встречи), когда он у меня спросил: «А кого ты из поэтов выделяешь?». «Ну, — я говорю, — так… читал кое-что…». «Ну вот, например, — говорит, — Фета читал?». «Нууу… „Я пришёл к тебе с приветом…“». «Да ты что! — говорит. — Фет — это величайший поэт!». И вот, он мне открыл Фета. Был февральский вечер, мы прошлись по улице и зашли к нему домой… И вот, помню, мы в его кабинете — он в кресле, я — напротив, торшер тогда у него был, создававший такой полумрак… И вот он достаёт Фета и начинает мне его читать. Я даже эти стихи запомнил… Я вообще совершенно под другим углом после этого увидел поэзию, другими глазами. Через Фета он мне открыл, что такое стихи в глубоком, а не дилетантском понимании. Прочитывая стихотворение, он всегда делал такие краткие эмоциональные восклицания: «О! Смотри как!.. Во!». Потом я тоже заразился Фетом, сам нашёл что-то, показал ему — он говорит: «Я этого не знал…». А там было такое: «И внемля бестелесному звуку…». Он оценивающе подчеркнул: «Бестелесный звук!..».
— Эпитеты отмечал, да?
— Да. У Фета он очень ценил свободу, лиричность его стихов… Вот, например: «Ярким солнцем в лесу пламенеет костёр…». Это стихотворение помню… «Как здесь свежо под липою густою…». «Я пришёл к тебе с приветом…» — здесь он обратил внимание на строки: «Что она горячим светом…». Выделил: «Горячий свет!». Но прочитал он его целиком тоже… «Над озером лебедь в тростник протянул…». «Вот, — говорит, — какая свобода!» (Это слово — «свобода» — тоже он повторил.) «В темноте на треножнике ярком…» (тоже читал). Потом (о следующем стихотворении) — вот это, говорит, «гениально». (Здесь он каждую строчку жестом показывал, — особенно выделял это стихотворение):
(«О!» — говорит.)
Это гениально! «Вот, — говорит, — космос!» «Во! — говорит. — …В которой с каждым я мгновеньем / Всё невозвратнее тону!..». То есть он умел находить у настоящих поэтов именно то, что надо ценить. (Стихов двадцать, я помню, прочитал.) «Чудная картина, / Как ты мне родна…». Потом — «Пчёлы»:
— ну и так далее…
Про одно стихотворение он сказал, что его испортил Фету Тургенев. Тургенев любил его редактировать и испортил стихотворение. Вот это (он тоже читал его): «Шумела полночная вьюга / В лесной и глухой стороне…». Ещё вот на это он обратил внимание:
Говорит: «Облаком волнистым / Прах встаёт вдали… Прах! — говорит, — был у Фета. А Тургенев ему исправил на пыль. Получилось глупо: Пыль встаёт вдали… Не видать в пыли… Два раза „пыль“!».
И вот он этот сборник Фета так — наудачу — взял, кусок большой прочитал, а дальше не стал: «Ты, понял?!..» — говорит. Я ему: «…даааа..». А приехав домой, я сразу отыскал эти стихи. Отыскал, посмотрел его глазами… И понял, что эти стихи, выделенные Кузнецовым, отличаются чем-то от всех других фетовских стихов… А вот в предисловии к книжке «Крестный путь» он, кстати, выделяет другие стихи Фета… Там, обратите внимание, — «Севастополь»… Вообще, о Фете он всегда говорил не то что, с придыханием, но… ценил его очень. «Очень, — говорит, — зримый. Потрогать можно».
Так, дальше, Тютчева ещё… Он не только Фета, конечно, в тот вечер читал. Фета отложил, Тютчева достал. Но Тютчева меньше… Вот ещё стихотворение Фета вспомнил: