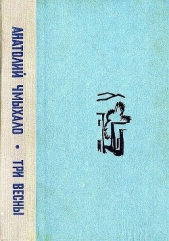Повести моей жизни. Том 2

Повести моей жизни. Том 2 читать книгу онлайн
Постановлением «Об увековечении памяти выдающегося русского ученого в области естествознания, старейшего революционера, почетного члена Академии наук СССР Н. А. Морозова» Совет Министров СССР обязал Академию наук СССР издать в 1947—1948 гг. избранные сочинения Николая Александровича Морозова.Издательство Академии наук СССР выпустило в 1947 г. в числе других сочинений Н. А. Морозова его художественные мемуары «Повести моей жизни», выдержавшие с 1906 по 1933 гг. несколько изданий. В последние годы своей жизни Н. А. Морозов подготовил новое издание «Повестей», добавив к известному тексту несколько очерков, напечатанных в разное время или написанных специально для этого издания.В связи с тем, что книга пользуется постоянным спросом, в 1961 и 1962 гг. было предпринято новое издание «Повестей» в двух томах, которое в основном повторяло трех томное издание 1947 г. Настоящее издание отпечатано с матриц 1961 г.Редакция и примечания: С. Я. ШтрайхОтветственный редактор: проф. Б. П. Козьмин.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А внизу, на земле, посредине каждого квартала надо будет развести сады из цветущих и фруктовых деревьев и сделать выходы сквозь ряды домов со всех четырех сторон в виде высоких арок, так, что, кто желает, может идти по крышам, или ехать по улицам, или, наконец, по садам внизу, переходя из средины одного квартала в другой сквозь эти арки. Для разнообразия можно будет располагать дома в некоторых городах и не четырехугольниками, а шестиугольниками, как пчелиные соты. Посредине каждого шестиугольника будет сквер с арками на все шесть сторон, против арок в соседних шестиугольниках. Это будет даже удобнее, чем квадраты, так как во всяком косом направлении будет ближе пройти или проехать. Надо будет и самые дома делать огромные, чтоб каждый дом занимал всю сторону своего квартала или шестиугольника, и тогда выходные лестницы сверху и снизу для всех этажей можно будет делать только по углам. И все эти милые девочки слушали мои мечты, как слова пророка, пришедшего возвестить им то, что непреложно должно совершиться, и глаза их сияли, устремленные в даль, в глубину таких прекрасных времен.
«Да, — пришло мне в голову, — молодость, как волна, вечно катится по человеческим поколениям из прошлого в будущее, и эта волна никогда не спадает и не выравнивается, всегда одна и та же, хотя и несется через каждые пять-шесть лет уже по другим жизням! И никакими силами не уничтожить в человечестве этой волны молодости и свежести и не превратить его в стадо скотов, заботящихся лишь о своей пище!»
К нам пришел один из выпущенных со мной товарищей, Орлов, которого они видели вчера и потому менее стеснялись с ним, чем со мною.
Он начал рассказывать что-то смешное. Лед был наконец проломан, разговор сделался более общим. Более смелые из курсисток тоже начали кое-что нам рассказывать, и мне было очень заметно, как они заранее взвешивали каждое свое слово и старались непременно выражаться закругленными оборотами с придаточными предложениями в каждой фразе.
— Ты заметил, — сказал я Орлову, уходя от них в двенадцатом часу вечера к Перовской, — что теперь я в новом положении! Юная молодежь не хочет более признавать меня за равного среди них, равных.
— Да и меня тоже! — ответил он. — Мне вчера в первый раз было у них совсем неловко. Да и теперь ты можешь быть уверен, что все наши слова они уже обсуждают между собою, а нас не пригласят на эти обсуждения. Мы их будем теперь стеснять своим присутствием.
Мне стало жалко прошлого, жалко того времени перед самым моим заточением, когда у меня не было еще ни бороды, ни усов и никаких печатных произведений, когда никто не смотрел мне в рот при разговорах.
Придя к Перовской, я начал горько жаловаться на свою долю обычному своему поверенному тайн — Сергею Михайловичу Кравчинскому.
— Успокойся, — сказал он мне. — Это только при первом знакомстве. А через несколько дней простого товарищеского отношения молодежь почувствует себя с тобой совершенно свободно и воздаст сторицею за свою сдержанность в первые дни. Все это я знаю по собственному опыту.
В комнату быстро вошел, почти вбежал Юрий Богданович, весь красный от зимнего воздуха и быстрого движения.
— Неприятная новость! — сказал он. — Некоторых из вас, выпущенных судом, уже решено административно выслать на жительство в Архангельскую и Вологодскую губернии. У меня записаны пять первых кандидатов в ссылку. Жандармский офицер, сообщивший это одному моему знакомому, говорит, что через несколько дней к вам присоединят и других и тогда всех вышлют одновременно. А пока все держат в тайне. Вот те, которых уже решено выслать.
Он прочел пять фамилий по бумажке. Там была и моя. Она меня не удивила.
Известие Богдановича лишь на несколько минут взволновало меня, но я его ждал с самого выпуска по теоретическим соображениям.
Я ни на минуту не поверил в возможность умиротворения душ у нашей администрации после того, как суд выбросил нас на улицу, вырвав из ее рук. Как могут все эти Фамусовы и Молчалины отказаться от своих карьер, которые легче всего устроить на походе против передовой части общества, против рвущейся вперед молодежи.
Во всех отсталых монархиях будущее страны приносилось бюрократией в жертву династиям, от которых они питались; в передовых же странах сами династии приносили Фамусовых и Молчалиных в жертву стране добровольно или насильственно. У нас же в то время, как я инстинктивно чувствовал, был первый период, и никто не собирался приносить в жертву стране ни одного из этих спасителей «существующего строя».
Я возвратился к Гольдсмитам лишь в первом часу ночи, и мы все почти сейчас же разошлись спать по своим комнатам. Мне была приготовлена постель на большом мягком диване редакционного кабинета под дубовыми полками библиотеки с такими привлекательными для меня естественно-научными названиями на переплетах книг.
Но, несмотря на первое побуждение, я теперь не прикоснулся к ним.
Я боялся, что они вновь повлекут меня к себе.
Призраки тюремных стен уже совсем побледнели кругом меня.
Я чувствовал, что новая жизнь предъявила на меня свои властные права, не дав мне даже и нескольких дней для отдыха после долгого заточения.
Она уже требовала от меня продолжения той опасной работы, которую я начал юношей четыре года тому назад; она требовала, чтобы я все далее и далее шел по той же тернистой дороге, на которую был брошен судьбою, шел по ней до тех пор, пока не погибну в пути или не достигну конечной его цели: света и свободы для своей родины!
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
XII. НЕВОЗВРАТНО БЫЛОЕ [41]
1. Мысли
Зачем я пишу о своем прошлом? Ведь кто оглядывается назад на жизненном пути, тот превращается, как жена Лота в библейской легенде, в каменный столб.
А я не хочу еще окаменевать!
Глядеть вперед — остается по-прежнему моим девизом, и я следовал бы ему и теперь, если б новое заключение в крепость не помешало мне работать для науки, как было последние шесть лет моей «новой жизни». Свою личность, свои приключения, свои маленькие радости и страдания я не счел бы достаточно важными, чтоб останавливать на них внимание читателя. Я предпочел бы предложить им что-нибудь посильнее из великой области науки.
Однако что же мне теперь делать, когда, снова запертый в крепости, я не могу пользоваться безусловно необходимыми мне научными источниками и материалами. И вот, по совету Ксаны и главным образом для нее, я и решаюсь написать о пережитом мною. И прежде всего я расскажу о том, как в своей прежней жизни я раз оглянулся именно назад и в результате хотя и не обратился в каменный столб, но пережил ряд тяжелых дней, пока опять не стал глядеть исключительно вперед и вперед.
Все это совершилось уже давно...
Мне трудно было бы вспомнить об этом на свободе среди ежедневных впечатлений жизни. Но здесь, под сводом крепостной камеры, среди тишины и уединенья, где никто, кроме часовых, не мешает моей мысли свободно уноситься в прошлое, трудное становится почти легким.
Не все в этом свитке ясно, многие места почти совсем стушевались, я уже не могу назвать некоторых местностей и фамилий сотен и даже тысяч виденных мною лиц и не могу припомнить всего того, что говорил и думал за то время, и всего, что слышал от других.
Вот почему я пишу здесь так, как делают новейшие живописцы, — «крупными мазками».
А это значит следующее.
У каждого из нас сохраняются на всю жизнь подробности тех случаев, когда мы переживали особенно сильное волнение, особенно сильные опасности, особенно сильные радости. Каждое произнесенное в такие моменты слово и каждая присутствующая фигура выгравировываются ярко и выпукло в нашем мозгу.