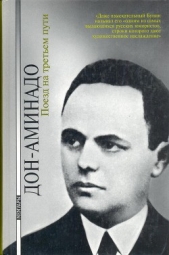Поезд на третьем пути

Поезд на третьем пути читать книгу онлайн
Книга представляет собой воспоминания литератора, чья юность прошла еще в дореволюционное время. После Октября Дон-Аминадо эмигрировал во Францию и поселился в Париже. Память о России, литературная жизнь, портреты современников — все это нашло отражение в интересной книге писателя.
Для широкого круга читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А кто вас спрашивает, согласны вы или нет? И вообще куда вы лезете, и причем тут латынь?
Вслед за чем следовало несколько избранных выражений, которых, как правильно говорил Седых, нельзя было найти ни у Грота, ни у Даля.
Но в особенный раж приводили его пишущие дамы, как называл их Чехов, приносившие «небольшой рассказ».
Борисов, дежуривший у телефона, приходил и спрашивал:
— Звонила госпожа Беляева, просит сказать, когда будет напечатан ее рассказ «Любовь до гроба».
— Пошлите её…
Борисов однако продолжал настаивать:
— Но что же ей все-таки сказать?
— Скажите ей, пусть повесится!
Папин мамелюк больше не настаивал и уже только из коридора слышно было, как он, пытаясь сгладить шероховатости, вежливо и нагло сообщал:
— Редактор сейчас очень занят… будьте добры позвонить завтра и спросите моего коллегу Шарапова… завтра его очередь дежурить у телефона, он вам обязательно всё скажет!
Несмотря на крутой нрав и постоянные выходки и заушения, Полякову всё прощали за его необыкновенную преданность газете, за его недюжинный профессиональный опыт, добросовестность, честность, прямоту, а в особенности за это на редкость безошибочное чутьё старого воробья, которого ни на какой мякине не проведёшь.
Кроме всего прочего, то есть чтения рукописей и редакторской правки, газету надо было сочинять, изобретать, выдумывать, а не так просто, здорово живёшь, помечать шрифты и сдавать в набор.
Павел Николаевич Милюков был искренно убежден, что главное в газете это — передовая.
Коммерческий директор, ученый агроном Волков, тоже не менее искренно полагал, что главное в газете это объявления, и по преимуществу похоронные.
Ибо тариф для покойников был самый высокий.
И конечно — что и говорить! — понимал и творил газету один Поляков.
Работал он до четырёх часов утра, курил крепчайший табак, который сам называл антрацитом, сам верстал все восемь страниц, не доверяя ни метранпажам, ни наборщикам, а после всех корректоров сам держал последнюю корректуру.
Уходил из типографии в конец измочаленный, всегда недовольный и собой и другими, и только выйдя на чистый воздух, жадно затягивался энной папиросой, и сам про себя повторял вслух, не то по привычке, не то из какого-то неосознанного суеверия:
— О, Господи, Господи! Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его!
А в половине второго дня сидел уже за редакционным столом, и «сочинял» завтрашний номер.
— Заказать военный обзор полковнику Шумскому; послать Вакара в Медон по делу об убийстве, а Андрея Седых к митрополиту Евлогию; напомнить Адамовичу дать статью по случаю столетия со дня рождения, или со дня смерти, — значения не имеет; дернуть Я. Я. Кобецкого насчет его биржевых заметок; приструнить Иноземцева за обзор печати, — большую себе волю забрал, много комментирует, мало цитирует; уломать Волкова насчет поездки Парчевского в Парагвай; сказать этому чорту, Петрищеву, чтоб прекратил свое неуместное заигрывание с «искренними коммунистами»; вдвое сократить милейшего князя Сергея Михайловича Волконского, который так растёкся мыслью по древу, словно дело идёт не о «Помолвке в Галерной гавани», а о трагедии Эврипида.
А еще что? Ах, да! Прочитать, наконец, рассказ Даманской, — третий месяц в ящике лежит, а Августа Филипповна, конечно, скучает.
Обо всех этих думах, заботах, тревогах и треволнениях, о вечной и упорной борьбе с рекламой, пошлостью, разгильдяйством, наездничеством, а часто и с вопиющей безграмотностью, знали все, кроме самого Павла Николаевича Милюкова.
И так случилось, что только под занавес, после того, как «Последних новостей» уже и след простыл, во время оккупации, в горах Савойи, в Aix-les-Bains привела судьба встретиться с Милюковым — в иных условиях, в иной обстановке, в номере «Международной гостиницы», где на убогом письменном столе, между склянок с лекарствами, разбросаны были мелко исписанные листки последней рукописи, которая называлась «Московский дневник — университетские годы».
Милюков и болел, и умирал, как тургеневский Базаров, любимый его герой.
Никогда не жаловался, ни о чём не просил, никого не затруднял, не тревожил.
— Не откажите в пустяке, согласитесь быть моим душеприказчиком…
Печально было это слушать, и неожиданно.
Мне всегда казалось, что Милюков меня скорее терпел, как в некотором роде необходимое зло в газете, и вдруг такой необычайный, ничем как будто неоправданный переход к близости, доверию, почти к совсем дружескому, милому отношению.
Отказываться было нельзя. Нотариус требовал душеприказчика на месте, остальные были в Париже и в Лондоне.
Пришлось согласиться. Павел Николаевич был искренне доволен, благодарил и крепким Базаровским рукопожатием подчеркнул свою трогательную признательность.
Встречались мы с ним часто, почти в течение года с лишним, и закат его был высокий, ясный, Олимпийский.
Рассказывал он о многом, о пережитом, о прошлом, и в голосе его звучали ноты, исполненные чарующей мягкости.
Открытие, познание человеческой души приходит всегда слишком поздно.
Из Савойских разговоров особенно запомнился один.
П.Н. сидел в кресле, укутав ноги пледом, и долго смотрел на карту Европы, висевшую напротив, на стене.
Карта была утыкана разноцветными бумажными флажками, точно определявшими линию русского фронта.
— Глядите, наши наступают с двух сторон, и продвигаются вперёд почти безостановочно…
Глаза его светились каким-то особым необычным блеском.
Он сразу оживлялся, и повторял с явным, подчёркнутым удовлетворением.
— Наш фронт… наша армия… наши войска…
В устах этого старого непримиримого ненавистника большевиков слово — наши — приобретало иной, возвышенный смысл.
В самые тяжкие и, казалось, безнадёжные моменты, он ни на один миг не переставал верить в победу союзников, в победу русского оружия.
До окончательного триумфа он так и не дожил.
…Разговор, как это часто бывало, опять перешёл на прошлое.
— Скажите, — спросил он со свойственной ему прямотой, улыбаясь и глядя в глаза собеседнику. — Правда ли, что меня в редакции называли Альбатросом, и что это, собственно говоря, значит?
Уклониться от ответа было невозможно, да может быть и ненужно.
— Да, это правда, Павел Николаевич. Есть такое стихотворение французского поэта Бодлэра, в вольном переводе Якубовича, П.Я.
В стихотворении этом поэт описывает горделивый полёт альбатроса, мощно расправившего свои белые крылья, высоко парящего в небе, в недосягаемых облаках, над синим морским простором.
Нет ему равного на свете, белому альбатросу! Только бы и парить, взлетать всё выше и выше, владычествовать над горизонтами, подыматься над самою стратосферой.
Но стоит ему опуститься на палубу проходящего корабля, как не узнать гордой птицы!
Опустив могучие крылья, неуклюже ступает он, переваливаясь с боку на бок, по скользкому настилу, и пьяный матрос, забавы ради, суёт ему кнастер в клюв, и всякая проходящая масть куралесит и измывается над одиноким царём просторов…
Ответственный редактор только улыбнулся, не то загадочно, не то с каким-то неуловимым оттенком грусти.
Сравнение с Бодлэровским персонажем было, очевидно, и лестно, и огорчительно.
Отступать было поздно, Базаров требовал уточнений.
— Идея государства, философия, культура, история русской интеллигенции, Британская энциклопедия — всё это, если хотите, принадлежит вам неотъемлемо, всё это есть ваш мир, ваша стратосфера! — Но стоим вам столкнуться с грубой каждодневной действительностью с обыкновенными людьми, с обыкновенной житейской прозой…
— Продолжайте, продолжайте, — уловив мое невольное смущение, настаивал Милюков, — всё это более чем интересно, а главное… неожиданно.