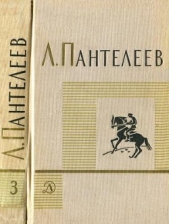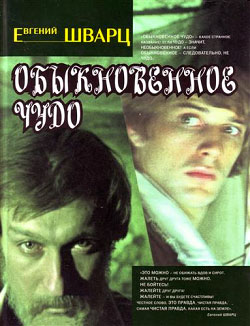Воспоминания о Евгении Шварце

Воспоминания о Евгении Шварце читать книгу онлайн
Ни один писатель не может быть равнодушен к славе. «Помню, зашел у нас со Шварцем как-то разговор о славе, — вспоминал Л. Пантелеев, — и я сказал, что никогда не искал ее, что она, вероятно, только мешала бы мне. „Ах, что ты! Что ты! — воскликнул Евгений Львович с какой-то застенчивой и вместе с тем восторженной улыбкой. — Как ты можешь так говорить! Что может быть прекраснее… Слава!!!“».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
После просмотра мы сидели в комнате у директора Дома ученых, и я спросил: «Ну, как, по-вашему?» «Вы же сами все видели, — ответила она, — а главное, слышали…»
То же остается написать?
Очень на многих просмотрах «Айболита» я побывал, и всегда его прекрасно принимала детская аудитория. И пресса была обширная, доброжелательная. И даже те товарищи, которые критиковали картину, тоже поздравляли меня и с ясными глазами хвалили… <…>
Вот так складывалась судьба одной из самых трудных и радостных работ в моей жизни…
Вениамин Каверин

Евгений Шварц
…Все люди не похожи друг на друга, но отношения между Шварцем и всем остальным человечеством были столь не похожи на любые общепринятые отношения, что он сразу стал в моих глазах личностью исключительной по иронии, уму, доброте и благородству. Его любимыми писателями были Андерсен и Чехов. От первого он взял добрый, но подчас горький сарказм, от второго — благородство души ( 1). Лишь после его смерти мы узнали, как трудно, с какими мучительными усилиями он работал. Это относится к каждой строчке, написанной им.
Ему было свойственно то, без чего любой талант, даже такие противоположные дарования, как Северянин и Брюсов, не может остаться в литературе или даже надолго задержаться в ней. Талант этот называется просто — вкус. Я работаю в литературе много лет, но знаю только трех писателей, обладавших абсолютным вкусом. Это были Ю. Тынянов, К. Чуковский и Е. Шварц.
Когда будут наконец напечатаны мемуары Шварца ( 2), я думаю, в них найдется немало подтверждений этой оценке.
Понятия чести, доброты, благородства редко предстают перед нами в такой цельности, которая была свойственна его личности. Он был добр без оговорок, честен без скидок на любые обстоятельства, и благороден, как дети, еще не знающие, что такое добро и зло. Все эти черты, да и многие другие, не менее характерные, отчетливо отражены в его произведениях.
И при этом всегда казалось, что он недоволен собой. Но все, что я рассказывал выше, — результат длительного знакомства, и чтобы рассмотреть эти черты, надо пробиться через его иронию, которая занимала в его литературной и жизненной позиции, может быть, самое значительное место. Он любил меткую остроту и сам был блестящим остряком. Он не прощал ни подлости, ни лицемерия и подчас искусно прятал это под маской остроумца, любителя шутливой болтовни. Таковы же были его произведения. Он писал свои сказки корявым детским почерком, медленно, но не показывал никому, какого они стоили мучительного труда и самоотверженного терпения.
Я смело поставил бы рядом с его блестящими сказками очерки, которые, мне кажется, он даже не публиковал при жизни ( 3). Можно ли при одном взгляде вскрыть внутреннюю сущность человека так же, как хирург своим острым ланцетом вскрывает его тело? Читая очерки Шварца, убеждаешься, что это не только возможно, но естественно для строгого и беспристрастного взгляда на мир. При этом он каждый раз оценивает себя, он никого не судит, кроме самого себя. Великолепен очерк о том, как ему не пишется, как он идет в типографию и видит там разумных, трезво и дельно работающих людей. Он спрашивает себя: почему так же спокойно, размеренно, деловито и целеустремленно не идет работа, составляющая смысл и цель его жизни? ( 4) Вопрос остается открытым, тут уже нет места спасительной иронии, нет попытки скрыться от себя самого. Я не сомневаюсь, что в его мемуарах отражен контур характера, набросанный пунктиром…
Мы переписывались: первые письма относятся к тем временам, когда блокада Ленинграда разлучила нас, разорвав отношения, сложившиеся в течение двух десятков лет. Он с женой был эвакуирован в Киров, я из ленинградской блокады вышел больной и лечился в Перми, найдя после долгих тревожных поисков свою семью, о которой я долго не имел никакого представления. Пьеса, которую я написал в Перми, называлась «Дом на холме» и была поставлена во многих театрах. Шварц увидел ее в Кирове и сказал мне, что он испугался. Пьеса была, по его мнению, не только плоха, но почти неприлично плоха. Я согласился.
Другие письма относятся к более позднему времени, когда мы уже жили в Москве, а Шварцы вернулись в Ленинград. Мы увиделись, но он был тяжело болен, а когда мы снова увиделись, положение его было почти безнадежным. Но он не верил в смерть и не хотел умирать.
Последним его утешением, может быть, был вечер, которым Союз писателей отметил его шестидесятилетие. Я приехал из Москвы и, выступая, сказал на этом заседании примерно то, что вы прочитали.
1961
1
Помнится, мы с тобой говорили, что иным людям удается прожить не одну, а две жизни. Биография Артюра Рембо появилась тогда в русском переводе, и мы были поражены историей поэта, который двадцати лет уехал в Африку и стал рабовладельцем, безжалостным добытчиком золота, носившим это золото в кожаном ремне, который он никогда не снимал. Он умер от опухоли, образовавшейся вследствие постоянного трения этого пояса о голое тело, умер, не зная, что вся Франция зачитывается его молодыми стихами. Если бы он это знал, ему пришла бы в голову простая мысль, что удалась-то как раз его первая, нищая, беспокойная жизнь и не удалась вторая, с ее пиратской роскошью и гаремами невольниц.
Ты не стал богатым человеком, как Артюр Рембо, и не променял свою поэзию на торговлю рабами.
Я вспомнил о нашем разговоре только потому, что все та же горькая мысль приходит всем, кто любил тебя: слава явилась к тебе, когда мы тебя потеряли…
2
Мне всегда казалось, что подлинный писатель бессознательно открывается, когда он еще не умеет не только писать, но читать.
До литературы письменной, воплощенной в романе, рассказе, пьесе, возникает литература устная, и подчас переход от второй к первой затягивается на годы. Так случилось с Евгением Шварцем. Он был писателем уже тогда, когда пятилетним мальчиком попал в кондитерскую и испытал чувство, для которого (вспоминая свое детство) не нашел другого выражения, как «чувство кондитерской». «Сияющие стеклом стойки, которые я вижу снизу, много взрослых, брюки и юбки вокруг меня, круглые маленькие столики. И зельтерская вода, которую я тогда назвал горячей за то, что она щипала язык. И плоское, шоколадного цвета пирожное, песочное. И радостное чувство, связанное со всем этим, которое я пронес сквозь пятьдесят лет, и каких еще лет! И до сих пор иной раз в кондитерской оно вспыхивает всего на миг, но я узнаю его и радуюсь».
Он был писателем, когда после первого посещения театра «вежливо попрощался со всеми: со стульями, со сценой, с публикой. Потом подошел к афише. Как называется это явление, не знал, но, подумав, поклонился и сказал: „Прощай, писаная“».
Если бы уже тогда у него не было способности по-своему относиться к явлениям внешнего мира, он не испытал бы запомнившегося на всю жизнь «чувства кондитерской» и не стал бы прощаться с афишей.
И когда девятнадцатилетним юношей я впервые встретился с ним, он еще не был писателем в общепринятом смысле этого слова, потому что ничего не писал. Но «устным писателем» он был — и выдающимся, талантливым, оригинальным.
Он приехал в Петроград вместе с маленьким Ростовским театром, вскоре распавшимся, и быстро сблизился с молодой группой «Серапионовых братьев».
На вечере, которым московский Литературный музей отметил восьмидесятилетие Шварца, выступила К. Н. Кириленко, много лет занимающаяся мемуарами Евгения Львовича, хранящимися в ЦГАЛИ. Из отрывка, который она прочитала, я впервые узнал, что знакомство с Серапионами было связано с одной из его бесчисленных попыток подойти к возможности работать в литературе.