Записки сенатора
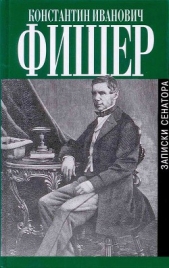
Записки сенатора читать книгу онлайн
«Записки» Константина Ивановича Фишера — действительного тайного советника, сенатора — это блистательные, точные, ироничные зарисовки чиновной России XIX века. Яркая галерея портретов государей и их вельмож: некоторых — служивших с честью, но больше — мздоимцев, казнокрадов и глупцов, подчас делавших карьеру исключительно очинкой перьев…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В январе опять вышел раскол в вопросе об устройстве училищ. Сенат был одного мнения, епископы — другого, князь Меншиков — третьего.
Для решения этого вопроса государь опять приказал послать меня в Гельсингфорс. Между тем цесаревичу напели, будто проект Меншикова — мой (что так и было), будто я такой самонадеянный, что не допускаю никакой чужой мысли; согрели опять историю об окладах финляндского кадетского корпуса — словом, сделали все, что можно, чтобы уронить меня во мнении наследника, не смея говорить против меня государю, ибо государь вывел бы все на чистую воду.
Съездив в Гельсингфорс, переговорив с педагогами и епископом в Борго, я изложил в записке свое мнение насчет училищ; я опровергал мнение сената, предлагавшего реальные гимназии, тем, что они уничтожили бы серьезное и религиозное направление преподавания; я находил, против мнения епископов, что исключительное подчинение им всех училищ не оправдалось опытом, ибо епископы потворствовали своим коллегам-богословам и вовсе не заботились о дисциплинарном положении училищ; я предпочитал оставить классические гимназии с несколькими высшими техническими классами и присоединить к епископскому надзору совместный надзор губернаторов. В особой записке я говорил, что, как ни сильно мое убеждение, полезно было бы составить из известнейших педагогов комитет, которому сообщить все три проекта, не называя их авторов, с тем чтобы комитет сказал, который из них лучше, не стесняясь иерархическими уважениями.
Я воротился в Петербург за три дня до кончины государя. Не знав в то время о наговорах, против меня сделанных, я был смущен холодностью приема цесаревича. Зная, что его высочеству поручено уже было управление делами империи, я не смел обременять его вовсе не спешным делом и потому оставил портфель у двери в кабинет на стуле. Цесаревич спросил меня сухо, отчего у меня нет доклада об исполненном поручении, — и на мой отзыв, что я не представляю его по несвоевременности, цесаревич так же сухо объявил мне, что он не видит препятствий. Доложив, что доклад у меня за дверью, я изложил свои мысли об училищах и, как видно было, получил одобрение, ибо наследник сказал мне, что вполне разделяет мои мысли и сейчас доложит мою записку государю.
— Государю сегодня гораздо лучше! — прибавил он.
Я осмелился отозваться.
— Ваше высочество! Дозвольте мне говорить с полною откровенностью!
Получив дозволение, я продолжал:
— Ваше высочество! Юношество есть самое драгоценное достояние родителей, на которое правительство имеет гораздо меньше права, чем на всякое другое частное достояние. Поэтому неосторожно бы было распорядиться участью детей на основании какого-нибудь личного соображения. Я говорил об училищах по убеждению, но мое убеждение может быть ошибочно. Спросите лучше у родителей или их поверенных, чего они желают для назидания детей своих! Поверенными я называю духовенство и лучших педагогов, таких, к которым родители отдают своих детей преимущественно. Их нетрудно узнать; в Гельсингфорсе, например, рядом с гимназией, где преподавание безвозмездно, стоит пансион Бакмана, в котором за слушание лекций платят 100 рублей. Гимназия даровая пуста, а дорогой пансион Бакмана переполнен. Следовательно, Бакман есть поверенный всех родителей, дети которых у него учатся. Прикажите, ваше высочество, составить из таких людей комитет и поручить ему пересмотреть все проекты.
Цесаревич, казалось, был удивлен такой речью, но пожал мне руку и сказал:
— Это делает вам честь! Отдайте мне записки!
Думал ли я, что через два дня великий князь, с которым я говорил, будет моим государем! Через два дня скончался Николай Павлович!
Николай Павлович служил России так усердно, как не служил ей ни один из его подданных; он трудился добросовестно, но ошибался в системе и был обманываем с отвратительнейшим цинизмом. Он был несчастлив в выборе людей. Шефом жандармов назначил Бенкендорфа. Не говоря о ложности этой системы полиции, нельзя было упрекнуть государя за выбор Бенкендорфа. Образованный человек, доброго сердца, благородного характера, неустрашимый, — чего же более? — а что делалось при Бенкендорфе!
Родной брат генерал-лейтенанта Эттера, командовавшего дивизией в Финляндии, высокий, черноволосый, очень красивой наружности, знакомый с Бибиковыми и графинею Клейнмихель, чуть не сослан на каторгу по распоряжению Третьего отделения, как беглый с каторги грабитель церкви, который был малого роста, худощав и рыж. Князь Меншиков не мог разуверить Бенкендорфа, что его обманывают, и Бенкендорф только тогда оставил Эттера в покое, когда Меншиков погрозил, что доложит обо всем государю. Говорили тогда, что это затеял начальник Третьего отделения Мордвинов из ревности!
Когда я был директором канцелярии комиссии постройки железной дороги, я близко узнал Бенкендорфа. Зная, что не поймаю председателя на долгое время в Петергофе, я сделал краткий реестр бумаг, поступивших в комиссию, и против номера каждой написал проекты резолюций. Когда граф Бенкендорф увидел в моих руках кипу бумаг, он сказал мне:
— Мой дорогой! Я вам могу дать только полчаса.
— Я у вас попрошу, граф, только четверть часа, — отвечал я; прочитал ему содержание каждой бумаги и проектированную резолюцию и сказал:
— Если ваше сиятельство согласны, не угодно ли подписать этот реестр.
Когда он подписал его и увидел, что я укладываю бумаги, он спросил:
— Как? Все?
— Все, граф.
— Молодец! И скоро, и хорошо!
Когда я приносил ему бумаги к подписанию и собирался читать их, он говорил «не нужно», брал всю кипу, выдвигал из стола с левой руки длинный ящик с поперечными перегородками, подписывал бумаги, не читая, клал каждую подписанную бумагу в ящик, в 1, 2, 3-е отделение его по порядку, так что на первую бумагу ложилась шестая или пятая, а между тем на первой подсыхал его замысловатый автограф.
Какие страшные бумаги могли проходить так через его подпись из Третьего отделения или корпуса жандармов! Но мог ли знать государь, что Бенкендорф так беспечен! Перед ним и все другие, и он принимали вид неистощимой попечительности, — а за глазами государь не видел. Если бы Меншиков, Бибиковы и Клейнмихель сказали государю, что Третье отделение хотело сделать с Эттером, он распорядился бы, — чему был и опыт.
Государь приказал графу Бенкендорфу написать Уварову, что его величество крайне недоволен направлением журналистики и не может не приписать этого невнимательности министерства. Мордвинов же написал Уварову выговор от себя. Уваров пожаловался государю, приложив письмо Мордвинова, и сей последний был немедленно сменен.
Мои личные опыты доказывают, что государю можно было говорить правду и что он переносил противоречие, если оно было сказано откровенно, без боязни и без обходов. Виновны те, кто, имея к нему доступ, занимали его пустяками и умалчивали о важных делах, из мелочных опасений или расчетов.
За исключением Клейнмихеля, нельзя упрекнуть государя и в том, чтобы он замещал должности по прихоти. Лица, им избранные, соединяли большею частью блестящие наружные качества: Бенкендорф, Орлов, Воронцов. Государь им вверился, но как отплатили они ему за его доверие? Бенкендорф все забыл в пользу своей беспечности; Орлов вмешивался в грязные спекуляции; Воронцов оклеветал Муравьева, лучшего русского генерала; Панин сделал все, что мог, к унижению сената; Меншиков не обманывал государя, но ни одной правды не умел сказать, не обинуясь.
Если я рисковал говорить ему прямо, что думаю, то не могу простить им, что они были трусливее меня. Душевно сожалею Меншикову, но не могу не винить его самого, что он пал. Сознаю ошибки государя, но не могу не уважать его и не жалеть о нем. Что должна была выстрадать его могучая натура, когда он увидел, что во всем ошибся и во всем его обманывали; когда севастопольские бастионы, которые величались в отчетах военного министра «несокрушимыми твердынями», рассыпались в порошок под неприятельскими ядрами; когда войска его бежали целыми бригадами, бросая в поле раненых командиров! Патриотизма не было ни в ком из его окружающих; главнокомандующего лишали средств обороны из страха, чтобы он не сделался фельдмаршалом; слово, сказанное им по секрету своим ближайшим сотрудникам, разглашалось и через два дня доходило до французского главнокомандующего Канробера.























