Салтыков-Щедрин
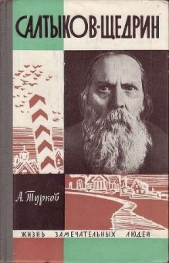
Салтыков-Щедрин читать книгу онлайн
Жизнь и творчество великого сатирика XIX века М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Щедрин начал свои очерки в разгар правительственного флирта с легковерными либералами. Даже в глазах двух сановников, Удава и Дыбы, один из которых прошел школу «графа Михаила Николаевича» (Муравьева-Вешателя), а другой — школу «графа Алексея Андреевича» (Аракчеева), путешественники читают снисходительность: «нынче и у нас в Петербурге… вольно!» В Швейцарии рассказчик встречает отставленного от дел графа Твэрдоонто, который довел в недавнем прошлом произвол до крайних пределов. Этот государственный муж, по уверению Щедрина, «даже слово «пошел!» не мог порядком выговорить, а как-то с присвистом, и быстро выкрикивал: «п-шел!». Именно так должен был выкрикивать, мчась на перекладной, фельдъегерь…» В пору бы счесть этот образ невероятным преувеличением, если бы наиболее выдающиеся государственные деятели этой эпохи не оставляли столь же беспощадных характеристик своим коллегам как людям, которые «не в состоянии подняться выше точки зрения полицмейстера или даже городового».
Появление фигуры графа Твэрдоонто сатирически подготовлено описанием обезьяны, томящейся в берлинском зоологическом саду. Рассказчик подозревает, что в родных лесах старый шимпанзе был исправником или даже министром и теперь с тоской вспоминает про «девяносто тысяч (по числу населяющих его округ обезьян) непроизведенных обысков».
Совершенно того же рода и переживания графа Твэрдоонто, который всегда считал, что «для нашего отечества нужно не столько изобилие, сколько расторопные исправники». Арсенал его приемов управления поражает своей скудостью; кажется, что перед нами политический мертвец, тем более что из России не перестают доноситься «отрадные вести». Так, один из знакомых рассказчика, учитель Старосмыслов, очутившийся в Париже почти на положении эмигранта, внезапно получает любезнейшее письмо от своего недавнего гонителя, который, «в согласность с полученными начальственными предписаниями, просил забыть его недавние консервативные неистовства и иметь в виду одно: что отныне на всем лице России не найдется более надежного либерала, как он, Пафнутьев».
«Но в иллюзии все-таки убеждал не верить», — едко добавляет Щедрин, прямо намекая на сентябрьские «разъяснения» Лорис-Меликова. Не кажется писателю невозможным и воскрешение графа Твэрдоонто на государственном поприще. Знаменательна история пребывания в Париже купца Блохина. Вначале он сочувствует злоключениям Старосмыслова и негодует на шарящих по домам становых, но вот, очутившись в Версале, Блохин выслушивает рассказ о том, «как отлично проводил тут время Людовик XIV и как потом Людовик XVI вынужден был проводить время несколько иначе». История французской революции явно насторожила его и оттолкнула от свободомыслия. В нем начинает проглядывать готовность к предательству: «Сейчас он об Старосмыслове печалуется: «что они с ним изделали?», а вслед за тем вдруг по поводу того же Старосмыслова сбесится и закричит: караул! сицилист!» — опасается рассказчик.
Мрачные предчувствия Щедрина оправдались. Убийство народовольцами Александра II (1 марта 1881 года) ускорило переход к реакции. Салтыков, вообще колебавшийся в вопросе о необходимости революционного насилия, к террористическим актам относился отрицательно, хотя и понимал, что они часто были спровоцированы неимоверным гнетом.
«Те редкие проблески энергии, которые, по временам, пробиваются наружу, — писал он в шестой главе «За рубежом», появившейся в мае 1881 года, — и они приобретают какие-то чудовищные, противочеловеческие формы… Когда жизнь растекается и загнивает, то понятно, что случайные вспышки энергии могут найти себе выход только или в изуверстве, или в презрении».
Мало того, что «удачное» покушение оказалось бесплодным; предложение народовольцев Александру III согласиться на амнистию и созыв народных выборных (в обмен на прекращение террора) не только осталось без ответа, но и вконец охладило конституционные надежды либералов, которые опасались, что их могут счесть союзниками революционеров.
Еще до 1 марта крохотные уступки Лорис-Меликова вызывали ожесточенное сопротивление заядлых реакционеров. За две недели до цареубийства Тимашев, Делянов и Победоносцев жаловались на то, что новый министр внутренних дел «совершенно распустил печать». Это было как раз в те дни, когда из февральской книжки «Отечественных записок» вырезали все «Внутреннее обозрение» Елисеева и кромсали страницу из «За рубежом», посвященную версальским впечатлениям Блохина!
Взрывы на Екатерининском канале придали консерваторам новые силы. Напрасно на совещании 8 марта, собранном новым царем, группа министров (Абаза, Милютин, Сольский, Сабуров, Набоков и др.) пытались доказать, что в проектах Лорис-Меликова «конституции нет и тени» и что «трон не может опираться исключительно на миллион штыков и армию чиновников». Бледный как полотно Победоносцев произнес длинную речь о смертельной опасности, грозящей России от любых представительных учреждений. Он напоминал про Генеральные штаты, созванные накануне французской революции, обвинял земства и новые суды, в которые поклялся никогда ногой не ступать, ужасался свободе печати. Даже многоопытные министры нервно вздрагивали в некоторых местах речи Победоносцева, где оратор вещал, что реформы прошлого царствования были роковым заблуждением.
Победоносцев демагогически провозглашал, что представительные учреждения «разобщают царя с народом» и тем подрывают основу самодержавия. И эта точка зрения восторжествовала.
«Странно слушать умных людей, которые могут серьезноговорить о представительном начале в России, точно заученные фразы, вычитанные ими из нашей паршивой журналистики и бюрократического либерализма», — писал царь Победоносцеву 21 апреля 1881 года об «оппозиционных» министрах. А 29 апреля появился манифест, где говорилось о намерении Александра III утверждать и охранять самодержавную власть «для блага народного, от всяких на нее поползновений». Один за другим выходили в отставку министры, предпочитавшие более гибкую тактику, — сам Лорис-Меликов, Абаза, Милютин, Сабуров.
Зато подымали голову заведомые мракобесы, тупицы и казнокрады. В последние месяцы жизни Александра II обнаружилось колоссальное расхищение казенных земель в Уфимской губернии. «Выплыло нечто ужасное, — возмущенно писал Салтыков Анненкову. — Из 420 т[ысяч] десятин казенных оброчных статей осталось налицо только 18 десятин. Остальное все роздано… Это одно из самых крупных событий, и ужасно любопытно, успеют ли его проглотить и скомкать или же ему суждено иметь развитие». Теперь же посыпались письма в защиту «невинных»: «…все это дело… начато по повелению социалиста (!!) армянина Лориса, — писал неизвестный корреспондент Победоносцева, — защитите усмирителей бунтов и консерваторов вообще, на них все опрокинулось, не давайте их в обиду, пусть царь своим могучим: «оставьте моих верных слуг в покое» воротит защитникам своим и, следовательно, всем порядочным людям потерянную ими смелость…»
Убийство Александра II многим «верным слугам» помогло поправить свои дела: так, Каткову удалось замять неприятнейшее обвинение в присвоении той части доходов с «Московских ведомостей», которая причиталась их официальному издателю — университету.
Недаром Щедрин рисовал следующую картину времяпрепровождения «убитых горем» консерваторов:
«Шумели, пили водку, потирали руки, проектировали меры по части упразднения человеческого рода, писали вопросные пункты, проклинали совесть, правду, честь, проливали веселые крокодиловы слезы…»
— Довольно кокетничать с так называемыми либералами, пора замазать им рот… Не забудьте, что застенчивость войска сгубила Людовика XVI!
— По-нашему, все эти «балаганных дел мастера» изменники: Кони, председатель, судивший Засулич, Александров, защищавший ее, прокурор, столь осторожно обвинявший ее, присяжные, оправдавшие ее…
— Необходимо принять меры, и меры строгие, чтобы публицисты не мутили воду и не бунтовали и без того взволнованную страну.























