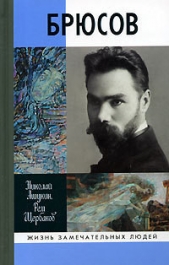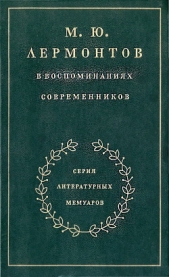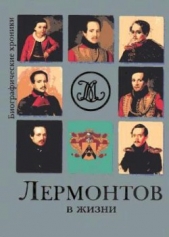Лермонтов: воспоминания, письма, дневники

Лермонтов: воспоминания, письма, дневники читать книгу онлайн
Лермонтов в жизни, Лермонтов — человек и поэт, как он рисуется в представлении современников и официальных свидетельствах и документах, на фоне подлинных исторических материалов. Восстановить этот образ в воображении современного читателя — задача настоящей книги. Она не является ученым исследованием, но предлагает результаты научного изучения биографических материалов о Лермонтове и будет интересна широкому кругу читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В Царском мы застали у «Майошки» пир горой и, разумеется, всеми были приняты с распростертыми объятиями, и нас принудили, впрочем, конечно, не делая больших усилий для этого принуждения, принять участие в балтазаровой пирушке, кончившейся непременною жженкою, причем обнаженные гусарские сабли играли не последнюю роль, служа усердно своими невинными лезвиями вместо подставок для сахарных голов, облитых ромом и пылавших великолепным синим огнем, поэтически освещавшим столовую, из которой, эффекта ради, были вынесены все свечи и карсели. Эта поэтичность всех сильно воодушевила и настроила на стихотворный лад. Булгашка сыпал французскими стишонками собственной фабрикации, в которых перемешаны были les rouges hussards, les bleus lanciers, les blancs chevaliers gardes, les magniflques grenadiers, les agiles chasseurs [316] со всяким невообразимым вздором вроде Mars, Paris, Apollon, Henri IV, Louis XIV, la divine Natascha, la suave Lisette, la succulente Georgette [317] и пр., а «Майошка» изводил карандаши, которые я ему починивал, и соорудил в стихах застольную песню в самом что ни есть скарроновском роде, и потом эту песню мы пели громчайшим хором, так что, говорят, безногий царскосельский бес сильно встревожился в своей придворной квартире и, не зная на ком сорвать отчаяние, велел отпороть двух или трех дворцовых истопников; словом, шла «гусарщина» на славу. Однако нельзя же было не ехать в Петербург и непременно вместе с Мишей Лермонтовым, что было условием бабушки sine qua non. К нашему каравану присоединились еще несколько гусар, и мы собрались, решив взять с собою на дорогу корзину с полокороком, четвертью телятины, десятком жареных рябчиков и с добрым запасом различных ликеров, ратафий, бальзамов и дюжиною шампанской искрометной влаги, никогда Шампаньи, конечно, не видавшей. Перед выездом заявлено было «Майошкой» предложение дать на заставе оригинальную записку о проезжающих, записку, в которой каждый из нас должен был носить какую-нибудь вымышленную фамилию, в которой слова «дурак», «болван», «скот» и пр. играли бы главную роль с переделкою характеристики какой-либо национальности. Булгаков это понял сразу, и объявил на себя, что он marquis de Gloupignon (маркиз Глупиньон). Его примеру последовали другие, и явились: дон Скоттилло, боярин Болванешти, фанариот Мавроглупато, лорд Дураксон, барон Думшвейн, пан Глупчинский, синьор Глупини, паныч Дураленко и наконец чистокровный российский дворянин Скот Чурбанов. Последнюю кличку присвоил себе Лермонтов. Много было хохота по случаю этой, по выражению Лермонтова, «всенародной энциклопедии фамилий». На самой середине дороги вдруг наша бешеная скачка была остановлена тем, что упал коренник одной из четырех троек, говорю четырех, потому что к нашим двум в Царском присоединилось еще две тройки гусар. Кучер объявил, что надо «сердечного» распрячь и освежить снегом, так как у него «родимчик». Не бросить же было коня на дороге, и мы порешили остановиться и воспользоваться каким-то торчавшим на дороге балаганом, местом, служившим для торговли, а зимою пустым и остающимся без всякого употребления. При содействии свободных ямщиков и кучеров мы занялись устройством балагана, т. е. разместили там разные доски, какие нашли, на поленья и снарядили что-то вроде стола и табуретов. Затем зажгли те фонари, какие были с нами, и приступили к нашей корзине, занявшись содержанием ее прилежно, впрочем, при помощи наших возниц, кушавших и пивших с увлечением. Тут было решено, в память нашего пребывания в этом балагане, написать на стене его, хорошо выбеленной, углем все наши псевдонимы, но в стихах, с тем чтобы каждый написал один стих. Нас было десять человек, и написано было десять нелепейших стихов, из которых я помню только шесть; остальные четыре выпарились из моей памяти, к горю потомства, потому что, когда я летом того же года хотел убедиться, существуют ли на стене балагана наши стихи, имел горе на деле сознать тщету славы: их уничтожила новая штукатурка в то время, когда балаган, пустой зимою, сделался временною лавочкою летом.
— Таким образом, — продолжал Юрьев, — ни испанец, ни француз, ни хохол, ни англичанин, ни итальянец в память мою не попали и исчезли для истории. Когда мы на гауптвахте, в два почти часа ночи, предъявили караульному унтер-офицеру нашу шуточную записку, он имел вид почтительного недоумения, глядя на красные гусарские офицерские фуражки; но кто-то из нас, менее других служивший Вакху (как говаривали наши отцы), указал служивому оборотную сторону листа, где все наши фамилии и ранги, правда, не выше корнетского, были ясно прописаны. «Но все-таки, — кричал Булгаков, — непременно покажи записку караульному офицеру и скажи ему, что французский маркиз был на шестом взводе». — «Слушаю, ваше сиятельство, — отвечал преображенец и крикнул караульному у шлагбаума: Бомвысь!», — и мы влетели в город, где вся честная компания разъехалась по квартирам, а Булгаков ночевал у нас. Утром он пресерьезно и пренастоятельно уверял бабушку, добрейшую старушку, не умеющую сердиться на наши проказы, что он весьма действительно маркиз де-Глупиньон.
[В. П. Бурнашев. «Русский Архив», 1872 г., № 9, стр. 1839–1845]
Когда последовал приказ о переводе Лермонтова за стихи «На смерть А. С. Пушкина» на Кавказ, в Нижегородский драгунский полк, офицеры лейб-гвардии Гусарского полка хотели дать ему прощальный обед по подписке, но полковой командир не разрешил, находя, что подобные проводы могут быть истолкованы как протест против выписки поэта из полка.
[П. К. Мартьянов. «Дела и люди века», т. II, 1893 г., стр. 152.]
Около того же времени умер Пушкин; Лермонтов вознегодовал, как и все молодое в России, против той недоброй части нашего общества, которая восстановляла друг против друга двух противников. Лермонтов написал посредственное, но жгучее, стихотворение, в котором он обращался прямо к императору, требуя мщения. [318] При всеобщем возбуждении умов этот поступок, столь натуральный в молодом человеке, был перетолкован. Новый поэт, выступивший в защиту умершего поэта, был посажен под арест на гауптвахту, а засим переведен в полк на Кавказ.
Эта катастрофа, столь оплакиваемая друзьями Лермонтова, обратилась, в значительной степени, в его пользу: оторванный от пустоты петербургской жизни, поставленный в присутствие строгих обязанностей и постоянной опасности, перенесенный в театр вечной войны, в незнакомую страну, прекрасную до великолепия, вынужденный наконец сосредоточиться в самом себе, поэт мгновенно вырос, и талант его мощно развернулся. До того времени все его опыты, хотя и многочисленные, были как будто только ощупывания, но тут он стал работать по вдохновению и из самолюбия, чтобы показать свету что-нибудь свое, — о нем знали лишь по ссылке, а произведений его еще не читали. Здесь будет у места провести параллель между Пушкиным и Лермонтовым, собственно в смысле поэта и писателя.
Пушкин весь порыв, у него все прямо выливается; мысль исходит или, скорее, извергается из его души, из его мозга, во всеоружии, с головы до ног; затем он все переделывает, исправляет, подчищает, но мысль остается та же, цельная и точно определенная.
Лермонтов ищет, сочиняет, улаживает; разум, вкус, искусство указывают ему на средство округлить фразу, усовершенствовать стих; но первоначальная мысль постоянно не имеет полноты, неопределенна и колеблется; даже и теперь в полном собрании его сочинений попадается тот же стих, та же строфа, та же идея, вставленная в совершенно разные пьесы.