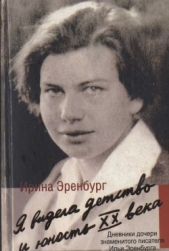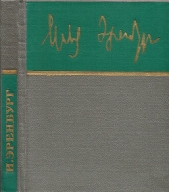Воспоминания об Илье Эренбурге

Воспоминания об Илье Эренбурге читать книгу онлайн
Жизнь Ильи Эренбурга тесно связана с крупнейшими событиями двадцатого столетия. Книга воспроизводит многие страницы этой замечательной биографии. Воспоминания писателей К. Федина, Н. Тихонова, А. Твардовского, К. Симонова, А. Суркова, К. Паустовского, Б. Полевого, М. Алигер, С. Наровчатова, Л. Мартынова и других, художников М. Сарьяна и А. Гончарова, маршала И. Баграмяна и генерал-майора Д. Ортенберга, деятелей искусства С. Образцова, Л. Вагаршяна воссоздают впечатляющий образ И. Эренбурга писателя и публициста, своеобразного поэта, видного общественного деятеля. Читатель видит И. Эренбурга в различных обстоятельствах — в годы создания первых книг стихов и романов, в республиканской Испании, на фронтах Великой Отечественной войны, в редакции газеты "Красная звезда", на международных форумах в защиту мира, в многочисленных зарубежных поездках.
Из свидетельств людей, близко знавших писателя, мы узнаем о его человеческих качествах, о его творческой работе.
Составители Г. Белая, Л. Лазарев.
На переплете помещен портрет И. Эренбурга работы Пикассо 1948 года.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Внимание мое в часы, когда я бывал у Ильи Григорьевича, было настолько поглощено его рассказами и вообще всем, говоримым им, что я не могу даже в точности описать его квартиру, хотя, конечно, помню расположение комнат и мебели. Когда в комнатах много книг, я смотрю только на них и плохо замечаю остальное. Но небольшой кабинет Ильи Григорьевича я вижу, как будто был в нем только вчера.
Он в глубине квартиры, направо по коридору от входной двери. Слева от двери простенок с книжными полками. Другой такой же простенок на противоположной стороне. Справа от двери диван. Напротив два окна, и в промежутке между ними, ребром к стене, большой письменный стол. За столом рабочее кресло, а перед столом, напротив дивана, кожаное кресло, в котором любил сидеть Илья Григорьевич, разговаривая или читая. Свет удобно падает сзади. Я обычно сидел на диване в ближнем к двери его углу. На книжных полках издания на разных языках, несколько полок со стихами, в том числе первыми изданиями имажинистов. Стол завален рукописями, письмами, корректурами, но это не хаос, а привычный рабочий беспорядок, который удобнее порядка. Телефонных аппаратов в квартире два или три: один в кабинете, другой на столике в коридоре у входной двери и, кажется, еще в столовой-гостиной. На письменном столе тоже стоят неровным рядом книги. Помню среди них японские и немецкие переводы "Люди, годы, жизнь", несколько новых советских книг, присланных авторами с надписями. Тут же лежат последние номера парижских и лондонских газет, итальянский журнал, польская художественная монография. Монографии и журналы менялись: всегда лежали новые, а старые куда-то перекочевывали. Я ничего не говорю о замечательных живописных полотнах, которые украшали все комнаты Эренбургов: прикованный к нему и к книгам, я возмутительно мало обращал на них внимания, хотя тут были и Пикассо, и Матисс, и Марке, и Леже, и еще многие. Кто-нибудь другой напишет об этом подробнее.
Кабинет невелик: расхаживать в минуты раздумья из угла в угол по нему неудобно. Зато все под руками, все рядом. На окнах кактусы. На полочке у стеллажа в двух глиняных чашах трубки, те самые, знаменитые. Увидев, что я их восхищенно рассматриваю, Илья Григорьевич выбрал и подарил мне одну, затем еще две. Сам он трубку давно не курит.
Мне кабинет Ильи Григорьевича нравился: он не был щегольски-показным, как некоторые другие писательские кабинеты. В нем спокойно и удобно. Для человека, который добрую треть жизни проводил в самолетах и вагонных купе, в гостиничных номерах и холлах отелей, он был надежным рабочим прибежищем. Кабинет на даче был просторнее и красивее. Может быть, этот «московский» кабинет нравился мне больше потому, что я в нем хорошо себя чувствовал и провел много замечательных часов. Уже входя в него, я ощущал особую настроенность слушать и размышлять. Тут было все «эренбурговское», что не могу сказать о многих других писательских кабинетах, так странно иногда непохожих на своих хозяев.
Впервые я увидел Илью Григорьевича, будучи почти подростком, на его вечере в Доме печати. Загадочно и сдержанно улыбаясь, откидывая рукой падающие на глаза волосы, он рассказывал любопытным москвичам о Рене Клэре, Абеле Гансе, Эпштейне, Фейдере, Ренуаре. Попутно демонстрировались фрагменты фильмов французских авангардистов. Он сам привез из Парижа несколько коробок волшебной пленки. Я уже тогда читал на школьных вечерах рассказ из "Тринадцати трубок", тот, что начинается: "Есть много прекрасных городов: всех прекрасней Париж…", и с нетерпением ожидал, когда он достанет из кармана трубку, ибо видел в журнале "Тридцать дней" его фотографии с неизменной трубкой. Но трубка в тот вечер не появилась: может быть, он забыл ее дома или ему не хотелось курить… Это было разочарованием, которое только отчасти искупили кадры из «Афиши» и "Париж уснул".
Шли годы, и мы прочитали прекрасный цикл статей о романах Ф. Мориака, А. Мальро, А. Моравиа, Л. Селина, Ж. Ромэна, о философских книгах М. Унамуно, П. Валери и других. Все это проглатывалось с азартом и жадностью. Обычно статья Эренбурга предваряла перевод отмеченной им книги на русский язык, и когда она выходила, мы уже знали, что это такое. Как и многие мои ровесники, в 30-е годы я впервые узнавал о людях и событиях европейской культуры из статей и выступлений И. Г. Эренбурга.
В годы, когда за границу ездили лишь немногие, путевые очерки Эренбурга знакомили нас с иными странами, городами, нравами, происшествиями. Коммерческие аферы Ивара Крейгера, Томаса Бати, голливудских бизнесменов, французские парламентские бури, плебисцит в Сааре, баррикады шуцбундовцев — обо всем этом и о разном другом Эренбург рассказывал увлекательно и со знанием дела.
Хорошо знакомая эренбурговская ирония, так же как прославленные трубки, фотоаппарат «лейка» с еще невиданным у нас боковым видоискателем, беспрерывные вояжи по свету с приключениями на пограничных постах и в карантинах — все эти приезды и отъезды так прочно связывались с представлением об авторе "Хулио Хуренито", что иного, другого Эренбурга, казалось, и представить невозможно.
Потом пришла пора Народного фронта Испании, антифашизма, французской трагедии 40-го года, и снова Эренбург делается нашим комментатором в стремительно меняющемся мире, в том потрясенном мире, где все нас касалось ближе, чем раньше. Пришли дни, когда ирония стала казаться ненужной, неуместной и даже оскорбительной. Но — странное дело! — каждый раз, когда манера Эренбурга грозила превратиться в манерность, ирония — в пустой смешок, что-то случалось в большом мире истории, и Эренбург повертывался к нам новой стороной и вновь оказывался нужным и незаменимым. В сущности, он не менялся: это не было духовной трансформацией — он оставался самим собой, он именно поворачивался.
Война! Ирония не исчезала, но она сочеталась с мужеством и гневом. Романтическая сентиментальность — с глубокой человеческой жалостью. Эренбург первым ввел в обиход презрительное «фриц». И с полос "Красной звезды", самой читаемой газеты тех лет, замелькали его бесчисленные: «Фриц-блудодей», "Фриц-философ", "Суеверный фриц", «Фриц-хитрец», "Фриц в Шмоленгсе", "Ископаемый фриц", «Фриц-биолог», "Фриц-нарцисс", "Фрицы этого лета", "Сумерки фрицев" и т. п. Конечно, тут был элемент упрощения, но нужно видеть разницу между беспристрастием исторической ретроспекции и пахнущей гарью листовкой со сводкой Совинформбюро.
Эренбург отлично чувствовал необходимость момента, и, конечно, презирая и ненавидя врага, воевать было с ним легче. Он не изобрел этого приема «упрощения», он угадал его в народном настроении первых недель войны.
Военная гроза миновала. Пришла победа. Но голос Эренбурга замолк ненадолго. Когда рождение атомной бомбы и страшная угроза ядерной войны породили движение борьбы за мир, он зазвучал снова. Опять ирония и сарказм, пафос и лирика, но уже в иной, так сказать, гармонизации. Роль писателя в этом движении была огромной и своеобразной. Эренбург оставался самим собой: он опять повернулся, не меняясь, и говорил о новых проблемах своим собственным языком.
А дальше последовала огромная работа над книгой "Люди, годы, жизнь". Эта книга писалась и печаталась постепенно, иногда с большими перерывами. Отдельные главы производили впечатление сенсации, другие разочаровывали. И то и другое впечатление было поверхностным, случайным, преходящим. Чтение было по необходимости фрагментарным, и вряд ли многие успели перечитать книгу целиком подряд. Когда это будет сделано, мы увидим, что это произведение гораздо более цельное, чем нам казалось: произведение единого замысла, осуществленного со строгой последовательностью. В каком-то смысле это огромное самопожертвование. Многие прежние книги Эренбурга как бы зачеркнуты этой книгой, вобравшей их в себя в сгущенном и освеженном виде. И этюды о русских поэтах, и многочисленные путевые очерки, и даже большой и хороший роман "Падение Парижа" (после глав о французской трагедии в "Люди, годы, жизнь" он мне показался условным и водянистым). Это также самопожертвование и в другом отношении. Писатель Эренбург не мог не знать, что в истории литературы есть жестокая закономерность: авторы знаменитых автобиографических книг обычно надолго лишают себя подробных биографий. За примерами ходить недалеко: Герцен, Горький, Станиславский… Это можно легко понять. Психологически трудно вступать в соревнование с героем биографии, самим подробно рассказавшим свою жизнь. Работа грозит превратиться в безудержное цитирование, авторство станет пересказом. Можно, конечно, оспорить мемуариста-автобиографа, попытаться дать новую и иную концепцию его жизни, но это этически допустимо только, если автор автобиографии, например, Талейран, который не столько раскрывал себя, сколько прятал.