Московские тюрьмы
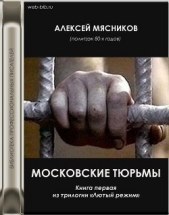
Московские тюрьмы читать книгу онлайн
Обыск, арест, тюрьма — такова была участь многих инакомыслящих вплоть до недавнего времени. Одни шли на спецзоны, в политлагеря, других заталкивали в камеры с уголовниками «на перевоспитание». Кто кого воспитывал — интересный вопрос, но вполне очевидно, что свершившаяся на наших глазах революция была подготовлена и выстрадана диссидентами. Кто они? За что их сажали? Как складывалась их судьба? Об этом на собственном опыте размышляет и рассказывает автор, социолог, журналист, кандидат философских наук — политзэк 80-х годов.
Помните, распевали «московских окон негасимый свет»? В камере свет не гаснет никогда. Это позволило автору многое увидеть и испытать из того, что сокрыто за тюремными стенами. И у читателя за страницами книги появляется редкая возможность войти в тот потаенный мир: посидеть в знаменитой тюрьме КГБ в Лефортово, пообщаться с надзирателями и уголовниками Матросской тишины и пересылки на Красной Пресне. Вместе с автором вы переживете всю прелесть нашего правосудия, а затем этап — в лагеря. Дай бог, чтобы это никогда и ни с кем больше не случилось, чтобы никто не страдал за свои убеждения, но пока не изжит произвол, пока существуют позорные тюрьмы — мы не вправе об этом не помнить.
Книга написана в 1985 году. Вскоре после освобождения. В ссыльных лесах, тайком, под «колпаком» (негласным надзором). И только сейчас появилась реальная надежда на публикацию. Ее объем около 20 п. л. Это первая книга из задуманной трилогии «Лютый режим». Далее пойдет речь о лагере, о «вольных» скитаниях изгоя — по сегодняшний день. Автор не обманет ожиданий читателя. Если, конечно, Москва-река не повернет свои воды вспять…
Есть четыре режима существования:
общий, усиленный, строгий, особый.
Общий обычно называют лютым.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Здесь еще подравняй, пожалуйста, — показывает на белые виски старик.
Зэк подравнивает.
— Я тебя, суку, в карцер загоню, — обрушивается прапор на своего подручного и выхватывает машинку. Старик-армянин встает и, еле сдерживаясь, говорит ему:
— Ты, наверное, в тюрьме родился.
Вот об этом я тоже написал в заявлении и еще добавил: «Пожаловался на клопов, а в ответ перевели туда, где клопов еще больше».
Утром на проверке отдаю заявление корпусному. Ответ я получил косвенный, в бане. Привели камеру в баню, разделись, как обычно, до трусов, приготовили майки, носки, платки — простирнуть. Ждем, когда откроют моечное отделение. Является этот банщик-прапор визгливый:
— В трусах не пущу, только мыло, мочалки, как положено.
Ропот:
— Как же так? Всегда можно было, а где стирать?
— Не нравится? Будете знать, как заявления на меня писать. Я сам читал. Пока бородатый здесь (кивает на меня), никого не пущу. Снимай с себя все без разговоров!
Так я испортил ребятам баню. Кое-кто покосился, но ничего не сказали. Через десять дней то же самое. Но тучи уже сгустились надо мной.
Переводили нас на три дня в холодную неустроенную камеру. В нашей морили клопов. Сказали, по моему заявлению. «Короли» — Феликс и компания — были недовольны. Им неудобно куда-то перебираться с хорошо насиженного места и толку, говорят, от дезинфекции нет: через пару дней клопы опять всюду. Чего ради переходить, мучиться в холодной камере? «Ты, профессор, зря заявления пишешь. Всю хату подводишь», — ворчали «короли». Отчасти они правы. Намаявшись три дня в отстойнике, вернулись в свою камеру. Острая вонь, кружится голова, резво выбегает навстречу первый клоп. Соскучился. Однако я спорил. «Короли» лежат ближе к окнам, там прохладнее, поэтому их меньше кусают. Если плохо дезинфицируют, надо добиваться, чтобы делали лучше. Надо снова жаловаться, не отдавать же клопам себя на съедение. Ведь есть камеры, где их нет, значит, и тут не должно быть. Если нарочно загоняют в холодные отстойники, чтоб не жаловались на клопов, то это издевательство. Следующий раз мы не пойдем туда, а потребуем нормальных условий. И кроме того, заявление мое относилось не к этой камере, а к 220-й. Тем не менее потребовали, чтобы впредь свои заявления я показывал хате. Внутренняя цензура. Отношения с Феликсом и «королями» портились.
Правая рука Феликса, Володя, тиранил всю камеру. То и дело кого-то пинает, щелкает, над кем-то потешается. Однажды положил на мой шконарь спичечную коробку с клопами. Вскакиваю, кричу в рожу:
— Это не шутка, это издевательство, убери сейчас же!
Он несколько оторопел, но коробку убрал. Матюкнулся для престижа:
— Такую-то мать, настроение испортил!
Пользуясь поддержкой Феликса, Володя наглел с каждым днем.
«Королями» здесь называют тех, кто ест за столом, остальные на нижних шконарях: кто сидя, кто на корточках с пола. К кормушке выстраивается длинная очередь. Короли не стоят, им подают. В первую очередь им, потом берет себе первая семья, вторая и так по ранжиру. Как-то я оказался у бачка и стал наполнять кружки кипятком на свою семью. Мне говорят: «Сначала на стол». — «Не маленькие, сами нальют». После обеда подходит от них Сережа-армян:
— Обижаешь, профессор, зачем плохие слова на нас говоришь? Сам сядешь за стол — тебе будут подавать, такой закон.
— Почему я должен тебя обслуживать? — отвечаю. — Кто хочет, пожалуйста, а я не хочу.
Вмешивается Володя с угрозой в голосе:
— За почему в тюрьме бьют по кочану. Делай что говорят и не спрашивай.
Кому дачка приходит, сначала на стол. Подходит Феликс — берет, другой из них — берет. Володя загребает без зазрения совести. Остается лишь то, чего у них и без того полно. В нашей семье — дачка. У нас открыто не крохоборничали. Но садимся есть, и «Смоленск», хромой, хамовитый парень откуда-то из Смоленска, сам ни разу ничего не получавший, отрезает сыр, колбасу — дань королям. Я его останавливаю.
— Мне нервы дороже, — отбрехивается Смоленск и ковыляет к Володе. При этом, конечно, наушничает на меня. Рядом со мной лежит юркий дедуля — Миша. Небольшой росточком, звали его Пирожок. Говорит, отмахал пятнашку. Нынче слонялся по деревням, делал печки. Иногда ездит на могилу к матери под Москву. На Белорусском вокзале проверили документы — ни прописки, ни работы. После отсидки нигде не брали, устроился с трудом где-то в глуши на кирпичном заводе. Тяжело, да и на воле воли не видно. А больше нигде не берут, не прописывают. Сбежал он оттуда и вот залетел. По ночам на ухо шепчет мне:
— Беспредел. Таких королей в парашу кидают.
А им ни гугу. Наутро сам же им служит. Что за человек? Видно боялся. Все норовил без шуму уйти к строгачам или к особнякам — к своим.
Однажды заводят длинного, в летах.
— Куда я попал? Общак? Ошибка — мне в строгий надо.
Но делать нечего, кидает мешок на свободный шконарь. С крыла Феликса кричат ему:
— Убери сидор, там занято.
— Кем?
— Не твое дело. Ляжешь, где скажут.
— Я делаю правильно. Имел я ваши приказы.
Чуть не до драки. Все-таки длинный перелег. И с ходу в карты. Их называют «стиры». Сережа-армян его облапошил. Длинный начал свои точить. Режется на куски газета, листки склеиваются в несколько слоев разжиженным жеваным хлебом. Снаружи тетрадные или чистые листы. Края тщательно обтачиваются о шероховатую поверхность.
Потом рисуют. Бывают отличные стиры, удобные, прочные, гибкие и красивые. Кстати, хлеб, оказывается, не только превосходный клей, он обладает и другими ценными для тюрьмы техническими качествами. Еще в Лефортово все фишки для нардов, шахматы — из хлебного месива. Если долго растирать, скатывать в ладонях мякиш, получится шарик, упругий и твердый. Об пол — подскакивает к потолку. А сколько всяких поделок, сувениров из хлеба!
Длинный точил стиры о шероховатую стенку вокруг толкана. Откидывается кормушка. Надзиратель требует: «Неси сюда!»
— Чего «неси»? — оборачивается длинный.
— Карты, говорю, неси!
— Спятил что ли — какие карты?
Надзиратель матом, в том смысле, что неси, мол, сюда, а то плохо будет.
— X… тебе в шары! — взвинтился длинный.
Так они друг друга чехвостили, никакая бумага не выдержит. Через пять минут заходят в камеру несколько надзирателей и уводят длинного. Миша-Пирожок сказал, что длинный специально мента отхуесосил, чтобы уйти из этой хаты к своим. Действительно, больше мы длинного не видели.
Замечу одно, что даже бывалые зэки-строгачи не могли изменить обстановку в камере. Один против стенки не воин. Королей человек десять, а в камере нас под шестьдесят. Но забитая масса всего боится. Все молчали или подхалимничали. Более или менее сильных, активных Феникс отбирал, сажал за стол, задабривал королевскими привилегиями. Беспредел крепчал.
Я больше общался с Петей. Забыл фамилию, похоже, Корюшкин.
Иссохший, бледный, морщинистый, моих лет, он ни во что не впрягался, его не трогали. Днем спит, ночью сидит за столом, пишет повесть о своем детстве. Перо у него набитое. Кончил в свое время Литинститут по семинару Долматовского. Стихи, говорит, в камере не пишутся, а проза идет. Работал по договорам в разных издательствах, без особого успеха, но печатался. Как человек, производит приятное впечатление. Сидит в этой камере одиннадцать месяцев, всех пережил, и это очень странно, так как сидит за алименты, кажется, а по этой статье срок всего год. Сейчас вспоминаю, правда, что висела над ним еще статья о краже, история была запутанная. Петя кражу отрицает, поэтому следствие затянулось. Он надеется на суде оправдаться, адвокат уверял, что обвинение в краже снимут и тогда засчитают отбытое за алименты, и сразу с суда на свободу. По слухам, так у него и вышло. Когда уходил, хотел подарить мне свое стихотворение.
— Не боишься? — шутя предупреждаю о возможных подозрениях в связи со мной.
— Нет, — сказал твердо, но подарка не сделал.
В камере ходили другие стихи. Автор их — Коля, самонадеянный, вспыльчивый парень, близкий к королям. Стихи ничего себе, упругие, задорные, но без живой мысли, флибустьерская бравада. После закрытия своего дела я показывал и читал выписки из показаний, из текста «173 свидетельства». Коля тоже поинтересовался и сделал вывод:

























