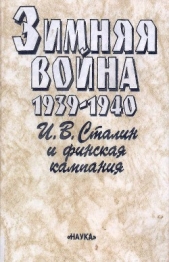Год рождения тысяча девятьсот двадцать третий

Год рождения тысяча девятьсот двадцать третий читать книгу онлайн
Перед вами дневники и воспоминания Нины Васильевны Соболевой — представительницы первого поколения советской интеллигенции. Под протокольно-анкетным названием "Гoд рождение тысяча девятьсот двадцать третий" скрывается огромный пласт жизни миллионов обычных советских людей. Полные радостных надежд довоенные школьные годы в Ленинграде, страшный блокадный год, небольшая передышка от голода и обстрелов в эвакуации и — арест как жены "врага народа". Одиночка в тюрьме НКВД, унижения, издевательства, лагеря — всё это автор и ее муж прошли параллельно, долго ничего не зная друг о друге и встретившись только через два десятка лет. Книга прекрасно написана и читается как увлекательный роман, — стойкость, мужество и высокие моральные качества автора которого вызывают искреннее восхищение.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Алик укрывает меня под своим плащом, пытается успокоить, но я знаю, что и он расстроен до предела. Тесно обнявшись, сквозь дождь и ветер, в кромешной тьме бредем домой и физически ощущаем свое полное одиночество в этом враждебном мире. Зло, обложившее нас со всех сторон, бесформенно, безлико и от этого еще более страшно. Мы под колпаком. С нами играют как кошка с мышкой, и когда эта игра будет закончена, нам неведомо.
Жизнь, между тем, идет своим чередом. В октябре начались занятия. Лавирую между расписаниями двух факультетов и все яснее осознаю, что взяла на себя непосильную нагрузку. У меня есть право выбора занятий — лишь бы справлялась с программой. Но как выбрать, если в одни и те же часы могут быть и актерское мастерство, и критический семинар, где обсуждается моя рецензия. Или ритмика и история театра (на актерском, разумеется, тоже есть курс истории театра, но меньший по объему, чем у театроведов).
Трудно наладить и мое домашнее хозяйство, не хватает фантазии, что и, главное, из чего готовить: в магазинах ничего нет, на рынке цены ужасные. Немудреные обеды, стирка — всё это зависит от хозяйки, надо подлаживаться к тому времени, когда она топит плиту. Проблема и с дровами. Нам поставлено условие — заготовить на зиму дрова, и каждый свободный час мы проводим в сарае, пилим узловатые кряжи, потом Алик колет их, а я складываю в поленницу.
Осень дождливая, холодная. Я простудилась, но продолжаю ходить на занятия. И только когда окончательно охрипла, была вынуждена отсидеться несколько дней дома. Чему, честно говоря, была очень рада. Жаль, конечно, что отстану в институте, но зато «по уважительной причине» пропущу очередной визит к своему «шефу». (Позвонила, сказала, что болею. Встречу перенесли на другой день, но она все равно висит надо мной как дамоклов меч).
За время болезни ко мне несколько раз приходит моя подружка Женечка Лихачева, с большим участием относится ко всем моим трудностям, пытается чем-то помочь: приносит какие-то сковородки, кастрюльки, устраивает знакомство с семьей, где можно купить не очень дорогую картошку. Все это трогает меня, я рада, что она становится «своим человеком» в нашем доме, вроде сестры моей, да и Алик относится к ней вполне доброжелательно. Женя рассказывает мне о делах в институте, приносит конспекты, и я с ее помощью нагоняю пропущенное на театроведческом, а вопрос с актерским после долгих обсуждений втроем решаем оставить пока открытым. Посмотрим, как пойдут у меня дела, может быть, придется распрощаться с ним. Хотя очень горько даже подумать об этом.
Приходит день моего очередного «собеседования» в казенном доме. Вроде все благополучно: текст одобрен, снова играем в шахматы, снова вопросы о всем и ни о чем, но по которым я понимаю, что им известен каждый шаг Алика, да и мои… А в заключение снова: «Встретимся через неделю. Теперь захвати по нескольку листков из разных глав рукописи». Ощущение, что я как муха все глубже вязну в паутине, которой опутывают меня.
Нервы напряжены. Плохо сплю, часто плачу. Алик всячески пытается подбодрить меня, но тоже, видать, на пределе.
Впервые была свидетельницей того, как он «сорвался с тормозов». Нужно было ему однажды съездить в пригород, по делам конторы, где он работал. День выпал ясный, солнечный, мне не хотелось оставаться одной и я поехала с ним. В вагоне было свободно, кроме нас всего несколько женщин. Когда подъехали к нужной станции и поезд уже замедлял ход, мы с Аликом пошли к выходу, но в дверях столкнулись с двумя подвыпившими парнями. Один из них, явно намеренно, задел Алика и обозвал его. Я не успела опомниться, как очутилась в тамбуре и увидела, как Алик резко обернулся и ударил этого парня так, что тот пролетел через весь проход и упал. Тут второй бросился на Алика и он, заслонив спиною дверь, сцепился с ним. Тут подоспел и первый… Я плакала, кричала. Алик каким-то быстрым движением выскользнул в тамбур и рывком задвинул дверь, удерживая ее от озверевших парней. «Выходи! — крикнул он мне. — Быстрее!» — и я выскочила на перрон, хотя поезд еще не совсем остановился. Не знаю, как ему удалось еще какие-то минуты удерживать дверь, но когда поезд тронулся, он тоже прыгнул вслед за мной. Парни повисли на поручнях, орали, грозились, но, к счастью, поезд не оставили.
У Алика лицо разбито, на рубашке кровь. Находим водокачку, он умывается, застирывает пятна и уже шутит, смеется над моим испугом: «Глупенькая, ну чего ты так расстроилась? Я ведь все-таки боксом когда-то занимался, да к тому же и момент неожиданности мне в таких случаях помогает — я ведь левша и всегда бью сначала левой». Но я все не могу успокоиться: «Это ужасно! Один против двоих! Я прошу тебя, обещай мне, что никогда впредь…». Он хмурится и говорит как непреложное: «А вот этого я тебе обещать не могу. Даже если б их было не двое, а четверо, я бы все равно им спуску не дал. Обзывать себя не позволю никому».
Сердце у меня сжимается. Сколько раз еще в жизни придется сталкиваться с гнусностью антисемитизма… Да и не только это. Знаю, что если когда-нибудь и меня заденут, он так же ринется не рассуждая. А он так отчаян в гневе! А потому, так уязвим… И мне становится страшно за него.
Еще одна встреча с «шефом». Алик, конечно, провожает меня. Идем оба как на казнь. Молчим, боимся сказать хоть слово, чтоб не дрогнул голос. Да и что говорить, и так знаем, что на сердце у каждого.
И когда снова сижу за шахматной доской, отвечаю о чем-то простом, житейском, говорить мне тяжело, будто камни ворочаю. Мельком взглядываю на «шефа», и вдруг цепенею, как кролик перед удавом: он улыбается! Он все знает! И то, что я сразу рассказала все Алику, и что листы приношу с его ведома. А сейчас слушает меня и посмеивается — это развлекает его: «Ну, пой, пой. Послушаем, что еще расскажешь…».
«Шеф» замечает, что выдал себя и тут же начинает болтать о чем-то постороннем. Не помню, как прощаемся, как договариваемся об очередной встрече. Страх, бессилие, отчаяние — все прорывается в слезах, с которыми обрушиваюсь на Алика. «Я больше не могу! Я не пойду к нему еще раз! Не пойду!».
«Да, ты больше не пойдешь сюда», — говорит Алик, и я умолкаю, И еще не веря в возможность этого, уже загораюсь его планом.
Мы убежим от них. В Ленинград. И они отстанут от нас.
* * *
Решение было принято, и сразу возникло много проблем. Прежде всего надо было достать пропуска для проезда в Ленинград. Законным путем получить их мы не могли. Но на рынке из-под полы можно было купить «реэвакуационные талоны», которые продавали те ленинградцы, чьи заводы возвращались в Ленинград, а они по каким-то обстоятельствам не хотели уезжать из Новосибирска. Эти талоны можно было переписать на нужную фамилию и уехать вместе с эшелоном данного завода. Рабочие заводов уезжали грузовыми составами, вместе с оборудованием и станками.
Стоили эти талоны дороже железнодорожных билетов, поэтому мы продали обе продуктовые карточки на ноябрь и оставили себе только хлебные. И все равно этой суммы не хватило, пришлось провести ревизию всего нашего «имущества» — оставить буквально по одной смене белья и обуви, да теплые вещи, а все остальное починить, почистить и отнести на барахолку.
Занятия в институте я начала пропускать — было не до того. И вот за отбором вещей для продажи застала меня однажды Женечка. Очень удивилась, что от налаженного мною порядка и уюта не осталось и следа: «Вы переезжаете на новую квартиру?». «Нет, мы едем в Ленинград», — ответила я, еще не успев подумать, надо ли говорить об этом… Но ведь Женя — «свой человек», и все равно мы с нею перед отъездом попрощались бы. Как и с Хочинскими, которые тоже пока ничего не знали о наших планах.
Женя горячо одобрила это намерение: «Я бы на вашем месте давно уехала. Мама твоя там, и квартира у Алика пустует, а вы тут маетесь в этой развалюхе, да еще хозяйка вас эксплуатирует».
Женя размечталась о том, как счастливо сложится наша жизнь в Ленинграде. Посетовала на то, что не может ехать с нами, а должна ждать, когда тронется в Ленинград институт. Она никогда не была в Ленинграде, и ей не терпелось увидеть его поскорей.
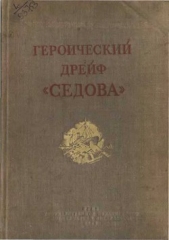
![Поход «Седова» [Экспедиция «Седова» на Землю Франца-Иосифа в 1929 году]](/uploads/posts/books/174245/174245.jpg)