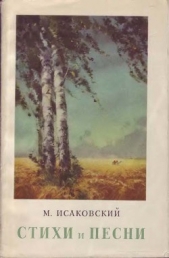Дорогой длинною...

Дорогой длинною... читать книгу онлайн
В настоящее издание включены воспоминания, стихи и песни, рассказы и письма Александра Николаевича Вертинского (1889-1957) — поэта, композитора, артиста, человека незаурядной судьбы.
Мемуары дают читателю вполне реальное представление о детстве, юности, первых шагах е искусстве А.Вертинского, о горести эмигрантских скитаний, о его тяге к отечеству, о возвращении на «милую навеки» родину после двадцатитрехлетнего странствия по свету.
В сборнике публикуются письма А. Вертинcкого, адресованные разным лицам, жене, дочерям. Вернувшись на родину в 1943 году, он впоследствии мучительно прозревал в созданной Сталиным удушливой атмосфере. Это была тихая невидимая миру трагедия о которой можно узнать из его писем. Только искренняя любовь публики была тем источником, который поддерживал в нем жизненные силы.
Такова эта одновременно и счастливая и трагическая судьба.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Пусть вам монахи читают!
И ушёл.
В мои гимназические годы по Киеву ходил человек с осанкой профессора, в весьма живописных и даже несколько «театральных» лохмотьях, с большой суковатой палкой, и сиплым, пропитым голосом предлагал прохожим тоненький сборничек стихов. Прохожие покупали из жалости. Это был скрытый вид попрошайничества. Сборничек назывался весьма жалобно: «Увядший букетик». А автор его — известный всему Киеву пьяница, некий Пучков, бывший студент и окончательно опустившийся алкоголик. Стишки были весьма мизерабельные:
К сборнику этому больше подходило другое название — «Телячьи нежности», например, — но нас удовлетворял и «Букетик». Отпечатан он был в типографии и кормил автора или, вернее, поил, довольно долго, года три. Продав штук пять экземпляров, он шёл на базар в «обжорку» и напивался. Мы, гимназисты, покупали у него эту книжонку «принципиально», чтобы показать мещанам, до чего они довели «поэта»! У каждого из нас было по нескольку штук этого «Букетика».
Свою вступительную речь «поэт» начинал так: «Пардон, мсье! Волею судеб очутился вне бортов общественного положения. Скитаюсь в океане бурь и невзгод. Нуждаюсь в сентиментальной поддержке, ибо нет ни сантима. Донз муа кельк шоз пурбуар!» И мы давали последние пятаки, сбережённые от завтраков. Надо же было поддерживать искусство!
Из всех квартир, где мы жили в годы моего детства, я хорошо запомнил только три. Первую, о которой уже писал, — на Фундуклеевской улице, где прошли самые ранние дни моего детства. Там был сад, выходящий к обрыву в Афанасьевский яр, где мы в ямке песка «варили» кисель из бузины, где мальчишки нашей стороны целыми днями перешвыривались камнями из рогаток и «закидачек» (вроде пращи) с мальчишками той стороны. В доме этом жила чудесная Лида Дымко, дочь хозяина, а потом не менее чудесная — тоже Лида и тоже дочь хозяина — Лучинская. Там, на Фундуклеевской, у меня было два товарища поляка — мальчики Тацек и Вацек, или, как мы их называли, Тазик и Вазик, восьми и девяти лет. Неподалёку, на Бибиковском бульваре, находилась аптека их отца, провизора Коценовского. Она и до сих пор существует. В витринах аптеки стояли два огромных сосуда для рекламы, наполненные один красной, а другой зеленой жидкостью, освещённые сзади. И я был уверен, что в одном из них клюквенная вода, а в другом грушевая. Однажды Тазик и Вазик украли из открытого окна у какого‑то квартиранта три рубля, лежавшие на столе, и накупили халвы, тянучек и конфет на все деньги, угощая ими весь двор. Их обоих немилосердно высекли, разумеется…
На Фундуклеевской в маленьких грязных лавчонках торговали французскими булками, халвой, керосином и, главное, конфетами. Но какими конфетами! Только одну копейку стоил «столбик» — довольно большой, кисленький, приятный, твёрдый и стойкий, долго не таявший во рту и длящий наслаждение до бесконечности. Четверть фунта халвы продавали за пятачок. Вот только денег не было, чтобы покупать все эти райские сласти. А французские булки в лавочке пахли керосином, и тётка строго-настрого запрещала их покупать. Нужно было покупать в настоящей булочной на Большой Подвальной у Септера. Но Септер был далеко, идти туда не хотелось, и я, пренебрегая запретом, упорно покупал булки в соседней лавчонке. К запаху керосина примешивался ещё запах лампадного масла, ибо хозяин был верующий старик старообрядец и в лавке горело много лампад, которые ежеминутно гасли и которые он сам лично заправлял новыми фитильками, а потом, отерев руки о фартук, отпускал покупателям товар.
Помню ещё большой гастрономический магазин Мирзоева. Но это уже было на другой квартире — в Обсерваторном переулке, куда мы переехали позже. Жили мы там на втором этаже. В глубине двора находился сад, и изумительная сирень росла там. Сирень была густого темно-бордового цвета. И ещё — белая, пышная, душистая, и ещё — персидская синевато-лиловая. Я безжалостно обламывал её, нарывая ночью букет, и относил (домой нельзя было, конечно) хозяйке гастрономического магазина, толстой и приветливой даме, которая однажды, поражённая любезностью мальчишки, подарила мне большую плитку шоколада.
Почти рядом с нашим домом на этой квартире была дружина вольнопожарного общества. В огромном сарае стояли бочки с водой и насосы, и тут же в стойлах топтались приготовленные к упряжке кони. А наверху была каланча. Днём и ночью ходил вокруг неё по маленькой площадке дежурный часовой и, если замечал где‑нибудь пожар, звонил в колокол; тогда моментально раскрывались двери, запрягались лошади. Первым выскакивал передовой верхом на коне, а через полторы-две минуты за ним вылетала уже вся команда. В ослепительно начищенных касках, смелая, горячая, способная на любые подвиги, она была неотразимо прекрасной. С лестницей, с топорами и баграми, с особым шиком, едва держась одной рукой за поручни, стояли пожарные. Грохоча, колесница уносилась вдаль, похожая на колесницы римских гладиаторов.
Как я завидовал им! Я мечтал, что, когда вырасту, обязательно стану пожарным. А тут ещё, как назло, под носом — потрясающий пример. В числе дружинников был один наш гимназист восьмого класса. Красавец парень, высокий, стройный и сильный. Он казался мне настоящим героем. В детстве сам с собой я играл только в пожарных. Учтя мои восторги, один сообразительный пожарник продал мне поломанную медную каску, собственно говоря, полкаски — за рубль, который я в тот же день украл из комода тётушки! Это была большая по тем временам сумма денег — выпороли меня здорово. Только теперь я понимаю смысл моих поступков. Все это были симптомы и признаки моего неодолимого желания и призвания быть актёром
Наша последняя киевская квартира находилась в Железнодорожной колонии, за вокзалом. Надо было перейти железнодорожные пути, и вы оказывались в маленьком городке с одноэтажными домиками, окружёнными цветущими палисадниками. В колонии этой находились вагонные и паровозные мастерские юго-западных железных дорог. Дядя мой, Илларион Яковлевич, муж тётки, заведовал вагонным цехом. Ему по должности полагалась казённая квартирка из пяти комнат, с ванной и кухней, с верандой, выходящей в небольшой садик. В саду были несколько старых деревьев, выкрашенная в зелёный цвет беседка, а вдоль невысокого забора стояли серебристые украинские тополя, клейкие и душистые весной, а летом засыпавшие улички, или «линии», как они назывались, своим белым лёгким пухом. Я любил этот садик. В нем были кусты малины, смородины, несколько грядок клубники, можно было потихоньку рвать эти чуть начинающие поспевать ягоды и наедаться зеленой кислятиной до боли языка. Зимой можно было сбивать палками ещё уцелевшие с лета где‑то на верхушках деревьев крупные волошские орехи, лепить бабу из снега или просто бегать с собакой Баяном, воображая себя то пожарным, то путешественником, попавшим на плавучую льдину, то Робинзоном.
Особенно запоминались праздники. На Рождество, в сочельник, после тщательной уборки в квартире натирали полы. Здоровенный весёлый мужик Никита танцевал на одной ноге по комнатам с утра до вечера, возя щётками по полу и заполняя всю квартиру скипидарным запахом мастики и собственного пота. Потом тот же Никита приносил с базара высокую пышную ёлку. Ёлку укрепляли в спальной, и она, оттаивая, наполняла квартиру уже другим запахом — запахом хвои, запахом Рождества. Этот запах заглушал мастику. Старый кот Кануська подозрительно глядел на ёлку, долго и тщательно обнюхивал её, немилосердно чихая при этом. На кухне одна из Наталий варила обед, или, вернее, ужин, потому что в этот день ничего нельзя было есть до вечерней звезды. Это не мешало мне, конечно, воровски наедаться всяких вкусных вещей, которые пеклись и жарились к ужину и которые я виртуозно таскал из буфета под самым носом тётки и кухарки. А в шесть-семь часов вечера, когда сгущались сумерки, высоко в темно-синем украинском небе — прямо над большим тополем во дворе — зажигалась звезда. Крупная, нежно-зеленоватая, единственная на фоне быстро темнеющего неба.